Том 1. Повести и рассказы 1879-1888 - [26]
Итак, читатель опять встречает меня на ***ской железной дороге. Если я несколько изменился с тех пор, как мы встретились впервые, если в волосах у меня кой-где пробивается ранняя проседь, то виноваты в этом не столько пролетевшие годы, сколько некоторое отсутствие того, что принято называть «благополучием». Жизнь интеллигентного бродяги, «искателя», которому так уж на роду написано обретать слишком часто то, чего совсем не искал…
…А там длинная дорога… Снежные широкие равнины, дремучие спокойные леса, бедные деревни с разметанными непогодою крышами… Бедный городишко нашего севера, спящего тихим сном, сквозь который так и чуется близкое пробуждение к жизни. Каково будет это пробуждение? Ждать ли, желать ли его?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«И вот они опять, знакомые места!»
Поезд бежит быстро. Мимо мелькают и скрываются окрестности уездного города С***, давно знакомые окрестности! Вот они близко, места, где я встречал грудью первый набегавший на меня житейский вал, где я решал практически первый житейский вопрос!..
Вот они — те же поля, та же дорога, те же леса, то придвигающиеся к линии дороги, то опять убегающие далеко, на край горизонта… Только теперь над полями лежит осень. Только дорога постарела, осунулась, опустилась; шпалы сгнили, живые сваи мостиков давно уже заменил ржавый чугун… Только леса поредели, отодвинулись от дороги, оставив вместо себя печально торчащие пни да широкие кладки рубленых дров… Только помещичьи усадьбы еще более насупились, и стало в них еще больше выбитых окон, повалившихся заборов… Что же? Везде время берет свое, все стареет… Благо, что ничего я здесь не оставил, что нечего мне жалеть позади, благо, что я могу считать объективно морщины на лице этой природы, которая была юна вместе со мною!..
Я оглянулся на своего товарища. Он, по-видимому, начинал дремать. Я с удовольствием смотрел на это лицо, молодое, энергичное, умное.
Когда я вновь высунулся в окно вагона, начал накрапывать дождик; туманная пелена, которую осень широко раскинула над молчаливыми полями, сгущалась; по временам из нее точно выплывали очертания деревушки, неясные силуэты лесов, но вскоре они опять тонули в мокрой, слякотной мгле. Капли становились чаще и чаще… и вот все исчезает — остается только ровная беспросветная мгла, и быстро летящая машина со стоном, лязганьем, свистом врезывается в нее все дальше и дальше…
Свисток протянулся, раздался сильнее и смолк. Спереди послышался такой же ответный свисток, и в тумане, на запасном пути, стал вырисовываться встречный поезд. По-видимому, он только тронулся со станции, к которой мы подъезжали. Он еще не разошелся, наш же замедлил ход. При встрече я разглядел товарный поезд, обращенный на этот раз в санитарный. Вагоны не были закрыты, и в них на соломе лежали раненые и больные, по нескольку человек в каждом…
Мы двигались все тише и тише. Санитарный поезд скрылся в тумане, сзади, а впереди все яснее вырисовывалась платформа. Она стояла среди поля, а мимо пролегала большая дорога; недалеко был уездный город.
На платформе виднелись какие-то фигуры. Тут же стояла тройка лошадей, запряженных в просторный тарантас. Порой коренная позвякивала бубенцами и порывалась вперед…
Поезд со стоном и скрипом остановился у платформы. С переднего вагона высаживалось помещичье семейство, с целою кучею вещей, с нянькой, с детьми. Пока из багажного вагона вынимали вещи, я успел разглядеть группу, которую заметил еще издали, на платформе.
Два солдата, один с перевязанной рукой и с костылем, другой с повязанной головой и, по-видимому, очень слабый, сидели под небольшим навесом, на скамейке. Раненый был очень угрюм; он смотрел вниз, протянув здоровую руку вдоль колена. Лица его товарища не было видно, так как он был закутан широким пледом, но вся его фигура как-то болезненно, уныло опустилась. Тут же, рядом, под дождем, стояла девушка, по-видимому студентка, «стриженая»; она всматривалась в туманную даль, точно поджидая кого-то. На ней был надет легкий бурнус; стриженые волосы промокли; через плечо была перекинута дорожная сумка. По-видимому, ее пледом был закутан больной.
В это время из соседнего вагона выскочил молодой человек, тоже в пледе и дорожных высоких сапогах, и проворно взбежал на платформу.
— Зиновьева! — окликнул он студентку.
Та обернулась. Бледное исхудалое лицо носило следы какой-то грусти, даже тоски и раздражения. Казалось, это выражение давно уже не сходило с лица, стало привычным. В голосе ее, когда она заговорила, послышалась какая-то скорбная нота, и пробивалось тоже раздражение.
— А, Иванов! Вот счастье-то! Есть у вас деньги?
— Немного; впрочем, мне всех не надо. Куда вы это?
— В Питер. Да вот заодно больных дали провожать… Вот высадили, надо их в N. — телеграмму дали, да никто не встретил…
Студент вынул из кошелька деньги и передал ей.
— Будет?
— Будет, доеду как-нибудь… Свои истратила. Больна была тифом; теперь не знаю еще, как в академии с экзаменом… Ну да черт с ним… — сказала она со злобой. — Вот сдать больных — поверите, дальше и смотреть не хочется… А хороша тоже встреча!.. Ну а вы-то куда же?
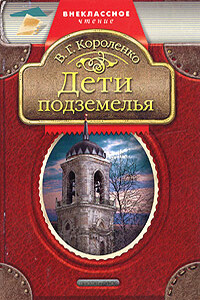
В своей повести «Дети подземелья» известный русский писатель В.Г.Короленко (1853-1921) затрагивает вечные темы дружбы, любви, добра, заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой жизни, полной лишений.Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
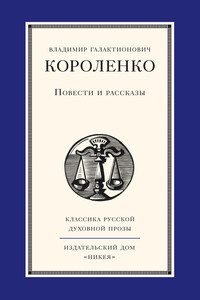
В. Г. Короленко – известный русский писатель, публицист и общественный деятель – в своих литературных произведениях глубоко исследовал человеческую душу. Понятие справедливости было главным для писателя, и его жизненная дорога стала путем правдоискателя и миротворца, который не закрывает глаза перед чужим горем. Все его герои – крестьяне или дворяне, паломники или бродяги, заключенные или их надзиратели – ищут справедливости, преодолевают себя, борются со слабостями, греховным унынием и эгоизмом («Слепой музыкант»), пытаются выжить в тяжелых условиях среди чужих им людей («Сон Макара»)

Рассказ написан в 1894–1895 годах, напечатан в первых четырех книгах журнала «Русское богатство» за 1895 год. Для первого отдельного издания, вышедшего в 1902 году, Короленко подверг рассказ значительной переработке: был дописан ряд эпизодов, введены новые персонажи, в том числе Нилов, осуществлена большая стилистическая правка; объем произведения увеличился почти вдвое. Материалом для рассказа послужили впечатления и наблюдения писателя, связанные с его поездкой летом 1893 года в Америку, на всемирную выставку в Чикаго.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
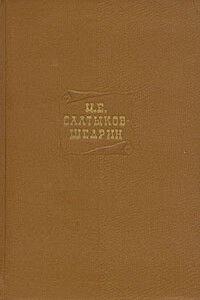
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
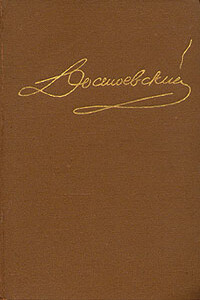
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены рассказы 1889–1903 годов: «Тени», «Река играет», «Ат-Даван», «Без языка», «Художник Алымов», «Не страшное» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.http://ruslit.traumlibrary.net.
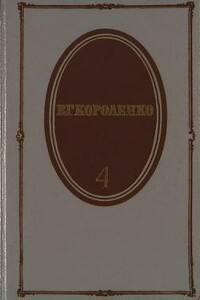
В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853–1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя.http://ruslit.traumlibrary.net.