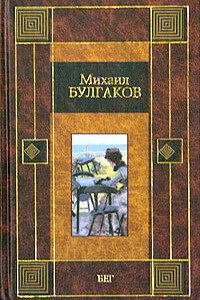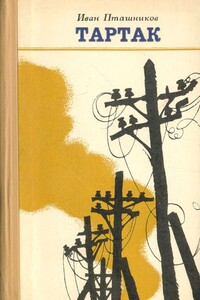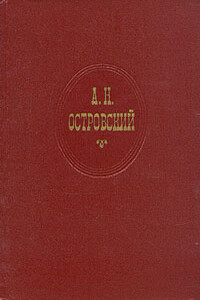В Москве есть все. Открываются кафе. Театры полны. Но все уж очень дорого стоит, не по карману. Только спекулянты и нэпманы могут хорошо питаться и жить в свое удовольствие. Булгаков же мечтает об одном — пережить зиму, купить Татьяне теплую обувь. По ночам работает над „Записками земского врача“, обрабатывает „Недуг“, но много ли ночью сделаешь…
В это же время у Булгакова возникла мысль „создать грандиозную драму в 5 актах к концу 22-го года. Уже готовы наброски и планы“, сообщает он в Киев. Мысль эта увлекла его „безумно“. И он просит Надю собрать в Киеве весь материал для исторической драмы, „все, что касается Николая и Распутина в период 16 и 17 годов (убийство и переворот)“, „газеты, описание дворца, мемуары, а больше всего „Дневник“ Пуришкевича — до зарезу!“, „описание костюмов, портреты, воспоминания и т. д.“. А в Москве „Дневника“ не оказалось. Если сестра достанет „Дневник“ на время, то просит ее описать все, что касается „убийства с граммофоном, заговора Феликса и Пуришкевича, докладов Пуришкевича Николаю“, теперь же списать дословно и послать ему в письмах. Конечно, он понимает, насколько это сложно и обременительно, но сестра должна понять, как эти материалы для него важны и необходимы. Он опасается, что „при той иссушающей работе“, которую он ведет, ему никогда не удастся написать ничего путного, но ему „дорога хоть мечта и работа над ней“.
Но материалы из Киева не поступали, и Булгаков спрашивает сестру: „…чего ж ты не пишешь?“ А потом, видимо, из-за отсутствия материалов он и вовсе охладел к этому „грандиозному“ творческому замыслу. Да и столько забот возникало у него каждодневно, что сил на все просто не хватало. В том же письме Н. А. Земской 1 декабря 1921 года он подробно описывает, как ему удалось остаться в комнате Андрея Михайловича Земского. Контора дома попыталась выселить Булгакова, но он, доведенный „до белого каления“, сдерживал себя, не вступал ни в какую войну, „дипломатически вынес в достаточной степени наглый и развязный тон со стороны смотрителя“, да и Андрей Михайлович проявил твердость и не дал выписать Булгаковых. „Пока отцепились“, — констатирует Булгаков факт перемирия с „конторой нашего милого дома“.
Пусть вспомнит читатель эти военные действия Булгакова с наглым и развязным смотрителем дома при чтении „Собачьего сердца“, пьесы „Иван Васильевич“ и др. Швондер и Бунша скорее всего списаны „с натуры“.
Из этого же письма мы узнаем, что Булгаков заведует хроникой „Торгово-промышленного вестника“, частной газеты, в которой он проводит „целый день как в котле“. „Я совершенно ошалел. А бумага!! А если мы не достанем объявлений? А хроника!!! А цена!“ — все эти восклицания Булгакова как бы предвещали, что частная газета долго не протянет. И действительно газета скоро прекратила свое существование, вышло только шесть номеров.
Снова нужно искать работу. Булгаков надеется на то, что его корреспонденция „Торговый ренессанс“, которую он отправил в Киев, подойдет какой-нибудь киевской газете, надеется стать „столичным корреспондентом по каким угодно вопросам“, может писать подвальные художественные фельетоны о Москве… Пусть вышлют приглашение и аванс. Сестра должна понять его чувства, его настроение, когда он только что узнал, что вместе с „Вестником“ вылетает в „трубу“. „Одним словом, раздавлен, — заканчивает он письмо Надежде. — А то бы я описал тебе, как у меня в комнате в течение ночи под сочельник и в сочельник шел с потолка дождь… переутомлен я до того, что дальше некуда“.
В своих корреспонденциях, фельетонах, „Записках на манжетах“ Михаил Булгаков подробно рассказывает о первых месяцах жизни в Москве, о том, как поступил на службу в ЛИТО Главполитпросвета при Наркомпросе, как стал сотрудником „Торгово- промышленного вестника“, как пытался организовывать объявления, чтобы поддержать коммерчески этот „вестник“, о том, как остался без места, а значит, и без средств к существованию.
В воспоминаниях „Нас учила жизнь“ А. Эрлих, прибывший в Москву осенью того же 1921 года, рассказывает о том, как он встретился с Булгаковым в ЛИТО и как они одновременно поступили на службу. А. Эрлих вошел в обширное помещение, где сидел старик и скучающе поглаживал усы. А. Эрлих дал ему папиросу, разговорились. Старик, слушая Эрлиха, пригласил еще кого-то к своему столу: „Я оглянулся. Худощавый человек в легком летнем пальтишке, с предупредительно вежливой улыбкой на лице продвигался от порога огромной комнаты к далекому столу с такой же почтительной и удивленной настороженностью, с какой я сам проделывал тот же путь несколько минут назад… Новый посетитель объяснил в свою очередь, что ищет работу. Врач по образованию, но литератор по профессии, он недавно приехал из Киева и хотел бы быть полезен литературному отделу Главполитпросвета…“
Заместитель заведующего ЛИТО предложил написать заявки, а к завтрашнему дню договориться между собой, кто будет секретарем отдела, „правой рукой“ старичка, а кто инструктором; у него оказалось как раз два места. Вскоре они вместе вышли на бульвар и договорились, что секретарем станет Булгаков.