Том 1. Что делать? - [9]
— Врешь, мой милый, врешь, — сказал Жан и зевнул.
— А не вру, не вру.
— Докажи. Я человек положительный и без доказательств не верю.
— Какие же доказательства я могу тебе представить?
— Ну, вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти? Да вот тебе: завтра мы собираемся ужинать опять здесь. M-lle Жюли будет так добра, что привезет Сержа, я привезу свою миленькую Берту, ты привезешь ее. Если привезешь — я проиграл, ужин на мой счет; не привезешь — изгоняешься со стыдом из нашего круга! — Жан дернул сонетку; вошел слуга. — Simon, будьте так добры: завтра ужин на шесть персон, точно такой, как был, когда я венчался у вас с Бертою, — помните, пред рождеством? — и в той же комнате.
— Как не помнить такого ужина, мсье! Будет исполнено.
Слуга вышел.
— Гнусные люди! гадкие люди! я была два года уличною женщиной в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, я и там не встречала троих таких низких людей вместе! Боже мой, с кем я принуждена жить в обществе! За что такой позор, мне, о, боже? — Она упала на колени. — Боже! я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой! Холод был так силен, обольщения так хитры! Я хотела жить, я хотела любить, — боже! ведь это не грех, — за что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличной женщиной в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, я недостойна ничего другого, но освободи меня от этих людей, от этих гнусных людей! — Она вскочила и подбежала к офицеру: — Серж, и ты такой же? Нет, ты лучше их! («Лучше», флегматически заметил офицер.) Разве это не гнусно?
— Гнусно, Жюли.
— И ты молчишь? допускаешь? соглашаешься? участвуешь?
— Садись ко мне на колени, моя милая Жюли. — Он стал ласкать ее, она успокоилась. — Как я люблю тебя в такие минуты! Ты славная женщина. Ну, что ты не соглашаешься повенчаться со мною? сколько раз я просил тебя об этом! Согласись.
— Брак? ярмо? предрассудок? Никогда! я запретила тебе говорить мне такие глупости. Не серди меня. Но… Серж, милый Серж! запрети ему! он тебя боится, — спаси ее!
— Жюли, будь хладнокровнее. Это невозможно. Не он, так другой, все равно. Да вот, посмотри, Жан уже думает отбить ее у него, а таких Жанов тысячи, ты знаешь. От всех не убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы, русские. Мы умный народ, Жюли. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип.
— Никогда! Ты раб, француженка свободна. Француженка борется, — она падает, но она борется! Я не допущу! Кто она? Где она живет? Ты знаешь?
— Знаю.
— Едем к ней. Я предупрежу ее.
— В первом-то часу ночи? Поедем-ка лучше спать. До свиданья, Жан. До свиданья, Сторешников. Разумеется, вы не будете ждать Жюли и меня на ваш завтрашний ужин: вы видите, как она раздражена. Да и мне, сказать по правде, эта история не нравится. Конечно, вам нет дела до моего мнения. До свиданья.
— Экая бешеная француженка, — сказал статский, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли. — Очень пикантная женщина, но это уж чересчур. Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует, но с нею я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года. Конечно, Сторешников, наш ужин не расстраивается от ее каприза. Я привезу Поля с Матильдою вместо них. А теперь пора по домам. Мне еще нужно заехать к Берте и потом к маленькой Лотхен, которая очень мила.
III
— Ну, Вера, хорошо. Глаза не заплаканы. Видно, поняла, что мать говорит правду, а то все на дыбы подымалась, — Верочка сделала нетерпеливое движение, — ну, хорошо, не стану говорить, не расстраивайся. А я вчера так и заснула у тебя в комнате, может, наговорила чего лишнего. Я вчера не в своем виде была. Ты не верь тому, что я с пьяных-то глаз наговорила, — слышишь? не верь.
Верочка опять видела прежнюю Марью Алексевну. Вчера ей казалось, что из-под зверской оболочки проглядывают человеческие черты, теперь опять зверь, и только. Верочка усиливалась победить в себе отвращение, но не могла. Прежде она только ненавидела мать, вчера думалось ей, что она перестает ее ненавидеть, будет только жалеть, — теперь опять она чувствовала ненависть, но и жалость осталась в ней.
— Одевайся, Верочка! чать, скоро придет. — Она очень заботливо осмотрела наряд дочери. — Если ловко поведешь себя, подарю серьги с большими-то изумрудами, — они старого фасона, но если переделать, выйдет хорошая брошка. В залоге остались за 150 р., с процентами 250, а стоят больше 400. Слышишь, подарю.
Явился Сторешников. Он вчера долго не знал, как ему справиться с задачею, которую накликал на себя; он шел пешком из ресторана домой и все думал. Но пришел домой уже спокойный — придумал, пока шел, — и теперь был доволен собой.
Он справился о здоровье Веры Павловны — «я здорова»; он сказал, что очень рад, и навел речь на то, что здоровьем надобно пользоваться, — «конечно, надобно», а по мнению Марьи Алексевны, «и молодостью также»; он совершенно с этим согласен, и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город: день морозный, дорога чудесная. — С кем же он думает ехать? «Только втроем: вы, Марья Алексевна, Вера Павловна и я». В таком случае Марья Алексевна совершенно согласна; но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка споет что-нибудь. «Верочка, ты споешь что-нибудь?» прибавляет она тоном, не допускающим возражений. — «Спою».

Во второй том вошли роман «Пролог», написанный Н. Г. Чернышевским в сибирской ссылке в 1864 году и пьеса-аллегория «Мастерица варить кашу», написанная в период пребывания в Александровском заводе.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века.

«Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для деятельности пассивные добродетели никуда не годятся», – писал Н.Г. Чернышевский. Один из самых ярких публицистов в истории России, автор знаменитого романа «Что делать?» Чернышевский много размышлял о «привычках и обстоятельствах» российской жизни, об основных чертах русской нации.

В книгу вошла научно-фантастическая дилогия Н. Г. Чернышевского «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле» — пророческое произведение о судьбах Кавказа, изобретении оружия массового уничтожения (описанные здесь чудовищные бомбы, «Пот-рясатели земли», близко напоминают ядерные), поражении России в грядущей «гонке вооружений» и гибели Москвы и Петербурга. «Сильный оружием вскоре разорится» — предупреждает автор. В приложении — посвященная дилогии статья Я. А. Гордина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
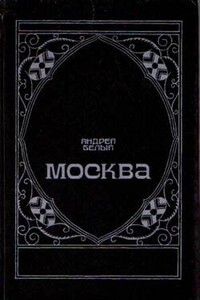
Романы Андрея Белого "Московский чудак", "Москва под ударом" и "Маски" задуманы как части единого произведения о Москве. Основную идею автор определяет так: "…разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигенстком кругу". Но как у всякого большого художника, это итоговое произведение несет много духовных, эстетических, социальных наблюдений, картин.
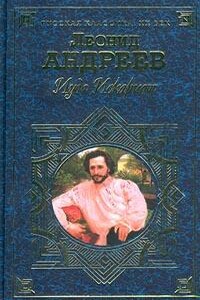
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В третий том Собрания сочинений русского революционера и мыслителя, писателя, экономиста, философа Н. Г. Чернышевского (1828-1889) вошла литературная критика.http://ruslit.traumlibrary.net.

В четвертый том Собрания сочинений русского революционера и мыслителя, писателя, экономиста, философа Н.Г. Чернышевского (1828–1889) вошли статьи по философии и эстетике. Эти работы — яркая страница в истории русской теоретической мысли.http://ruslit.traumlibrary.net.
