Тимей - [31]
«Тимей» только в первой своей части (17а – 29е) содержит разговор нескольких лиц между собой, в дальнейшем же весь диалог – это на самом деле сплошной монолог. Такой сплошной монолог для Платона необычен, и это отчетливо оттеняет как его литературную манеру, так и его манеру мыслить во всех остальных произведениях. До этого у Платона было разве только одно произведение недиалогического характера – это «Апология Сократа» – и только отдельные речи или рассказы, вкрапленные в общую диалогическую форму.
2) Переходя к анализу содержания «Тимея», необходимо прежде всего сказать, что в этом диалоге представлено не что иное, как диалектика трех основных (с точки зрения Платона) областей бытия, трактованных строго систематически. Как мы видели по композиции диалога, это ум (29с – 47е), материя (47е – 69с) и соединение того и другого в одно целое (69с – 92b). Вполне определенная философская система заключается здесь в том, что вещи не рассматриваются в изолированном эмпирическом существовании, но для каждой вещи фиксируется ее смысл, ее специфическая идея, а потом все эти идеи объединяются в одно целое, трактуются как общая идеальная действительность и объявляются порождающими моделями для всего вещественного мира. Это и есть то, что обычно называется платонизмом. Мы бы только заметили, что конструируемая здесь противоположность ума и материи имеет свой огромный смысл.
С точки зрения нашей современной науки, да и сточки зрения здравого смысла вообще, мир не может пониматься вне содержащихся в нем закономерностей. Hо если бы все здесь сводилось к закономерностям, мир перестал бы быть миром, а превратился бы в математические уравнения. Все числовое и вообще все смысловое – а мы бы теперь сказали, что все законы природы и общества, – все это, взятое вместе, Платон трактует как ум (или разум). Ясно, что одного ума недостаточно для понимания этого мира. Мир материален, а ум нематериален. Мир полон случайностей, а ум от начала до конца рационален. И наконец, ум, взятый сам по себе в чистом виде, без всякой материи, есть только возможность осуществления, но не само осуществление с присущими ему необходимыми законами. Поэтому Платон, создавший теорию вполне рационального ума, чувствует необходимость также и иррациональных моментов в мировой действительности. Вот тут-то философ и подошел к той необходимости, которая во всем противоположна рациональному уму, иначе говоря, которая есть нечто иррациональное, что позднейшие последователи Платона назвали материей «умом», употребляя этот термин совсем не в нашем смысле слова. Hо о том, что такое материя у Платона, мы скажем ниже. А сейчас, если мы хотим понять Платона, не допуская при этом модернизации, мы должны признать, что противоположность ума и необходимости есть нечто для платонизма весьма ощутительное, максимально реальное и даже вполне очевидное.
Для Платона является очевиднейшим фактом бытия то, что в нем есть идеальная закономерность ума, который подчинен лишь себе и потому абсолютно свободен, и материальное осуществление этих умственных закономерностей, которое может совершаться в самой разнообразной степени – от нуля до бесконечности. Нулевое осуществление ума – это и есть то, что Платон в этом диалоге считает материей, а бесконечно большое осуществление этих закономерностей есть космос видимый, слышимый и вообще чувственно воспринимаемый, но насквозь пронизанный вечными идеями. Однако прежде всего попробуем отдать себе отчет в том, что такое здесь ум.
3) Проблема ума в «Тимее» удивляет своей неустойчивостью и даже противоречиями. Прежде всего, поскольку ум является здесь творцом всего существующего, всегда была очень сильная тенденция христианизировать концепцию ума в «Тимее» и трактовать этот ум как абсолютную личность, единую и надмировую, которая и создает все существующее в результате собственного волевого акта и по своему собственному усмотрению и промыслу.
Надо сказать, что повод к такому толкованию «Тимея» дает сам Платон. Он употребляет такие выражения, как устроитель (составитель 29е, 30с, 32с), соединитель, складывающий (33d), связующий (43е), творец (28с, 38с, 40а), прилаживающий (36е, 41b), строитель (36е), чеканщик (39е), искусник и даже демиург, т.е. мастер (28а, 29а, 40с, 41а – с, 42е, 47е, 68е, 69с), а также отец (28с, 37с, 41а, 42с), который характеризуется как благой (29а, е, 30а), разумный и рассуждающий (38с). В свете монотеистического учения о творце и творимом всегда был соблазн соответствующим образом понимать и неясный здесь термин «бог», который Платон весьма часто употребляет (31с, 34а, с, 36b, 41а, 44е, 45е, 46d, 37с).
Тем не менее против последовательного монотеизма «Тимея» имеется ряд глубоких аргументов, которые не только ставят под сомнение весь этот монотеизм, но и выдвигают совершенно иную концепцию, гораздо более точно трактующую содержание этого диалога.
Во-первых, монотеизм считается учением об абсолютной личности, которая творит мир из ничего. Платоновская социально-историческая среда решительно не дает никаких данных для подобного рода философской конструкции. Именно рабовладельческая демократия не создавала никакой почвы для подобного рода воззрения, так что в те времена не существовало даже термина «личность». Во-вторых, философские материалы V – IV вв. не содержат даже и намека на такого рода абсолютный персонализм; появление монотеистического «Тимея» в IV в. было бы историко-философским курьезом. В-третьих, филологическая картина «Тимея» отнюдь не требует признания такого монотеизма, о котором на первый взгляд говорят приведенные у нас выше платоновские выражения. Космогония и космология «Тимея» гораздо чаще пользуются не теми терминами, которые указывали бы на свободное творение, созидание, но терминами, производными от глагола «возникаю», «становлюсь», или от соответствующего существительного. Только иногда Платон употребляет глагол «порождаю», причем в греческом языке этот термин связан по преимуществу с происхождением от отца (24d, 28bc, 37с, 38с, 41аb, d). Однако (в-четвертых) именно этот термин заставляет нас отрицать всякий монотеизм в «Тимее». Ведь если бог порождает мир из своей собственной сущности, это не монотеизм, а выдержанный пантеизм, в котором проповедуется некая общая сущность всего мира, а сам мир является лишь разнообразной иерархией этой сущности. С точки зрения христианского монотеизма никак нельзя сказать, что мир есть сын божий, но только, что он есть «тварь божия». Тот Сын Божий, который проповедуется в христианстве, составляет единую сущность с Богом-Отцом и порождается этим последним не во времени, но в самой вечной сущности божества: он отделен непроходимой пропастью от «твари». Поэтому термин порождение в контексте «Тимея» может иметь только пантеистическое, но отнюдь не монотеистическое значение. Далее (в-пятых), в «Тимее» совершенно определенно проповедуется вечное существование материальных элементов независимо от бога. Бог только упорядочивает хаотически смешанные элементы и приводит их в идеальный порядок, но сама их, если можно так сказать, материальная субстанция вполне совечна богу. В «Тимее» есть места, не оставляющие в этом смысле никакого сомнения (31с – 33а, 53b, 69bс). Наконец (в-шестых), эти термины возникновения и рождения настолько перепутаны в «Тимее», что попадаются в одной фразе и даже в одной строке. Филологу ясно, что никакого существенного различия этих терминов Платон не признавал. Следовательно, в силу подобной перемешанности терминов ни о каком последовательном монотеизме «Тимея» не может быть и речи.
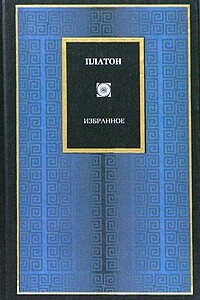
В центре «Апологии Сократа» (392 до н.э.) – первом законченном и дошедшем до нас тексте Платона – проблема несовместимости индивидуальной добродетели и существующего государственного устройства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В диалоге «Федр» всего два собеседника, мирно сидящих под платанами у почти пересохшей летом реки Илис. Это Сократ и Федр.Тема их беседы напоминает «Пир», хотя здесь нет поисков сущности любви, но зато раскрывается ее неистовая, безумная сторона, ее роль в становлении души на путях блага и в создании подлинной философии, а не пустого красноречия.

Диалог "Государство" по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни — личной, семейной, полисной — со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага.
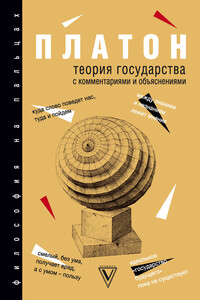
Древнегреческий философ Платон был учеником Сократа, которого высоко чтил, и учителем Аристотеля. Считая, что настоящая философия может существовать только при условии постоянного диалога, Платон и свои произведения написал в такой же форме, сделав главным героем Сократа и вложив в его уста собственные мысли. «Государство» Платона – первая в истории человечества попытка построить модель общества, в котором все были бы счастливы, и модель государства, где каждый бы делал то, что у него лучше получается.
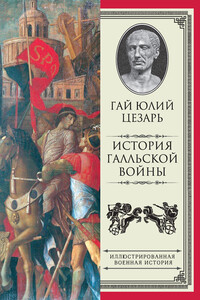
Гай Юлий Цезарь (100–44 гг. до н. э.), несомненно, был величайшим полководцем и государственным деятелем. Помимо непрерывного активного участия в политической и военной жизни, он написал несколько трудов, описывавших его автобиографический опыт. Одним из таких стало сочинение о Галльской войне. Это не только подробнейший источник по истории политических отношений античной эпохи, но и произведение, которое можно отнести к документальной хронике, мемуарам и военному трактату. Повествование книги обрамлено описаниями многих знаменательных событий того времени и этнографическими сведениями.
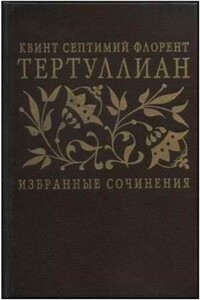
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диалог между Сократом и ритором Гиппием Элийским представляет собой софистический спор о лживости героев «Илиады» и «Одиссеи».
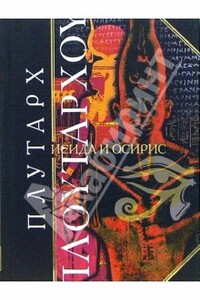
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Евангелие Иуды – гностическое апокрифическое евангелие на коптском языке, входящее в найденный в 1978 году в Египте кодекс Чакос, частично реконструированное и опубликованное в 2006 году. Найденный текст, возможно, является переводом утраченного греческого оригинала. Книга с таким же названием упоминается в антиеретических сочинениях Иринея Лионского и Епифания Кипрского. В отличие от канонических Евангелий, в этом евангелии Иуда Искариот показан как единственный подлинный ученик, совершивший предательство по воле Самого Иисуса Христа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
