Телячьи нежности - [4]
В дождливое Успенье отвезли меня на телеге в Русинову Поляну. Я хотел вымолить у Приснодевы хотя бы огрызочек счастья. Но Она, должно быть, слышала мои печали уже давно, ибо после первой же молитвы увидел я Марыльку. В чудесной горской одежде, чистой, праздничной. Утопающую в песнопении. Удрал я от Юзуся во время мессы, когда тот голову преклонил и в грудь себя бил; я тогда украдкой, с пальцем на устах, пробрался в Марылькин уголок, схватил ее за рученьку, четками оплетенную, и мы в лес побежали, сквозь бурелом, сквозь колючие ветки, незнамо как добрались до самой травянистой глади Гусиной Шеи. И легли, вслушиваясь в свои дыхания.
Потом мы пошли, рука об руку, в горы, мимо изваянных во гневе Божьем и стоящих как в карауле скал, мимо склонов пологих, как круг спящего стоя в конюшне сытого коня, которого можно дружески похлопать, у которого можно погладить бархатные ноздри. И чем дальше мы шли, тем округлее становились горы, будто слепил их Бог и, умилившись, сгладил. Мы шли и днем и ночью и на заре, ступая вдоль границы тени, одной ногой по инею, другой по согретой солнышком траве.
И наконец пришли исполненные греховности часы лесные, взрывы хохота на урочищах, молочные поцелуи, утренние капли слюны, блестящие на коже, и мы, с ног до головы опутанные паутинкой поцелуев…
А когда ночью у костра в Дудовой сторожил я сон свернувшейся на моих коленях Марыльки, я загрустил по ней, поняв, что вот оно — еще одно из невозвратимых мгновений проходит.
Мы возвращались, всё откладывая расставание до самой деревни, предчувствуя, что после нашего появления времени попрощаться нам не дадут, и когда под покровом леса на последней его пяди я хотел как принято заплакать на прощанье, облить слезами печальное расставание, Марылька разразилась смехом. О, сколь смышленым было это созданье: действительно, зачем плакать, прощаясь, если то, что раз произошло во времени, беспрестанно повторяется в вечности, — я понял, что она смеется, ибо, несмотря на щемящую под ложечкой панику расставания, мы все еще ворочались с боку на бок в нашей общей бессоннице, укладываясь, будто ложечки, чутко ловили сквозь утренний сон, как нас накрывает простыней зари, — и заразила меня этим увековечением, этим смехом, и мы смеялись уже вместе, на смех, видать, была она мне дана, не иначе.
А потом, а потом от меня были только хлопоты, я превратился в плод несчастной любви, стал укором совести — у Юзуся ждала уже мать, по полной заряженная на истерику, я глазом моргнуть не успел, как она забрала меня домой, отцу же отошли выходные и каникулы.
С той поры из года в год они вырывали меня друг у дружки, друг дружке передавали, подбрасывали, суетно, нервно, угрюмо, поучали, выправляли, настраивали один против другого, будто старались поскорее лишить меня детства.
Будто не знали, что сами себя лишают жизни.
В деревню я снова попал много лет спустя, с отцом, когда он стал крестным сразу пятерни (семья Юзуся так замучила Бога своими просьбами, что Он разом компенсировал им все бездетные годы). Марыльку я увидел на похоронах матери Толстого (от известия о рождении пятерых внучат она получила инфаркт обоих сердец, только дала себе слово, что доживет до их крестин; умерла, можно сказать, от счастья). У Марыльки, дочери локиса Бахледы, моей первой единственной, окрашенные в модный в этой местности светло-фиолетовый цвет волосы были слегка прижжены перманентом, был при ней и смахивающий на медведя муж — обладатель усов и магазина бытовой техники; в минуты нежности она называла его «Мишаня», в силу чего несущественным было мое любопытство, носит она белье или нет. Семейное заклятье повелело ей потерять голову от мужчины с самой густой шерстью на широком торсе, а моя вечно юношеская кожа, распятая на мачтах ребер, по гроб жизни исключила меня из поля ее симпатий.
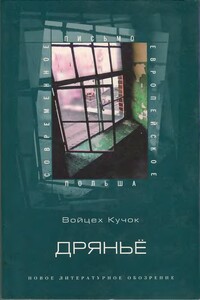
Войцех Кучок — поэт, прозаик, кинокритик, талантливый стилист и экспериментатор, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Нике»» (2004), полученной за роман «Дряньё» («Gnoj»).В центре произведения, названного «антибиографией» и соединившего черты мини-саги и психологического романа, — история мальчика, избиваемого и унижаемого отцом. Это роман о ненависти, насилии и любви в польской семье. Автор пытается выявить истоки бытового зла и оценить его страшное воздействие на сознание человека.
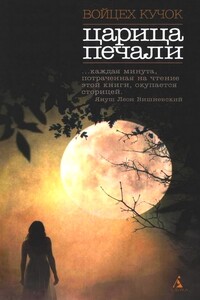
Роман «Дерьмо» — вещь, прославившая Войцеха Кучока: в одной только Польше книга разошлась стотысячным тиражом; автор был удостоен престижных литературных премий (в том числе — «Ника»); снятый по повести польский фильм завоевал главный приз кинофестиваля в Гдыне и был номинирован на «Оскар», в Польше его посмотрели полмиллиона зрителей. Реакция читателей была поистине бурной — от бурного восторга до бурного негодования. Квазиавтобиографию Кучока нередко сравнивают с произведениями выдающегося мастера гротеска Витольда Гомбровича, а ее фантасмагорический финал перекликается с концовкой классического «страшного рассказа» Эдгара По «Падение дома Ашеров».

Войцех Кучок — польский писатель, сценарист, кинокритик, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Ника» (2004). За пронзительную откровенность, эмоциональность и чувственность произведения писателя нередко сравнивают с книгами его соотечественника, знаменитого Януша Вишневского. Герои последнего романа Кучока — доктор, писатель, актриса — поначалу живут словно во сне, живут и не живут, приучая себя обходиться без радости, без любви. Но для каждого из них настает момент пробуждения, момент долгожданного освобождения всех чувств, желаний и творческих сил — именно на этом этапе судьбы героев неожиданно пересекаются.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Тревожные тексты автора, собранные воедино, которые есть, но которые постоянно уходили на седьмой план.

Судьба – удивительная вещь. Она тянет невидимую нить с первого дня нашей жизни, и ты никогда не знаешь, как, где, когда и при каких обстоятельствах она переплетается с другими. Саша живет в детском доме и мечтает о полноценной семье. Миша – маленький сын преуспевающего коммерсанта, и его, по сути, воспитывает нянька, а родителей он видит от случая к случаю. Костя – самый обыкновенный мальчишка, которого ребяческое безрассудство и бесстрашие довели до инвалидности. Каждый из этих ребят – это одна из множества нитей судьбы, которые рано или поздно сплетутся в тугой клубок и больше никогда не смогут распутаться. «История Мертвеца Тони» – это книга о детских мечтах и страхах, об одиночестве и дружбе, о любви и ненависти.