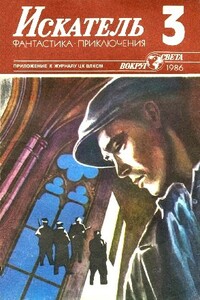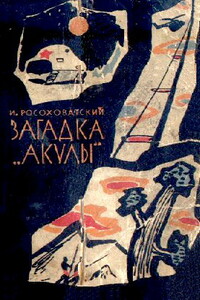Евгений двинул бровями, видимо, хотел отшутиться, и вдруг насупился:
— У соседки девчонка. Восемь лет, не говорит ни слова. А в глазах смышлинки играют и часто — боль… — Без всякого перехода он добавил: — Мы могли бы оставаться на два часа после работы… А что, думаешь, видишь ли…
Теперь невольно улыбнулся Борис: против характера Евгения годы бессильны. Другие стареют, меняются, становятся цельнее или хотя бы скрытнее, а этот такой же, каким был в институте. Мечется во власти настроений, берется то за одно, то за другое.
Он ушел в лабораторию и углубился в работу. Через несколько минут над самым ухом раздался заговорщицкий шепот:
— Ну, старик, так смоемся в кино?
4
— Хэлло, Хью!
Хьюлетт не обернулся. Он и так знал: там, позади, в полуоткрытую дверь протиснулся сухой, как вобла, в потертом пиджачке сэр Рональд Тайн — один из самых влиятельных ученых, в котором отлично уживались хитрость маклера, точный расчет математика и фантазия поэта.
Тайн обошел вокруг анализатора и заглянул в лицо Хьюлетту.
— Мы с вами давно знаем друг друга, Хью, и можем говорить начистоту, сказал он.
Кондайг понимал, зачем пришел Рональд. Он мог бы пересказать все, что собирался говорить профессор, со всеми «мгм», «так сказать», «ничего не поделаешь» и «выше нос, старина!». Он чувствовал, как трудно говорить это Тайну, и помог ему:
— В мое отсутствие работу можно передать Хаксли. Он дельный парень, справится.
— Справится. А вы подлечитесь и отдохнете…
Последние слова Тайна Хьюлетт пропустил мимо ушей. На его месте он говорил бы то же самое. Вместо возражения деловито перечислил:
— Записи и схемы для Хаксли в ящиках номер один и номер два. В ящике номер три — материалы для вас.
Он тяжело поднялся из кресла, протянул руку. Его тень с втянутой в плечи головой казалась горбатой.
— Вот и все. Прощайте, Рон.
Тайн краем глаза видел безразличное лицо Кондайга. Лишь рот искривился на сторону еще больше, углы его устало опущены.
— Выздоравливайте, Хью, мы будем навещать вас, — поспешно проговорил профессор и вышел из кабинета. «Может быть, он хочет проститься со своим регистратором? — думал Тайн. — С вещами мы иногда расстаемся тяжелее, чем с людьми…»
Хьюлетт постоял минуту, уставясь на регистратор. Возможно, эта работа, изнурительные дни и ночи, переутомление явились толчком к развитию дремавшей болезни. Впрочем, какая разница?..
Тупая боль в затылке усилилась и распространилась к вискам, охватывая обручем голову.
Врач сказал тогда, в первый раз: «Видения не имеют отношения к работе». А потом, когда начались припадки, док вынес приговор: «У вас феноменальное, очень редкое заболевание, близкое к эпилепсии и к некоторым другим циклическим психозам». Он тщетно пытался изобразить дружеское участие. И спросил: «У вас в семье не было алкоголиков?»
«А наркоманы не подходят?» — угрюмо пошутил Хьюлетт.
Перед ним сразу же возникло лицо изящного великана, человека, на которого он был так похож и гордился этим. Тогда, у врача, он еще не знал всего. А позднее, когда припадки стали учащаться, прочел несколько книг по психиатрии и узнал, что его ожидает. Оказывается, и кошмарные видения имели научное название.
Хьюлетт протянул правую руку, наощупь выдвинул ящичек, развернул пакетик с препаратом, куда входил люминал. Почувствовал горечь на языке и проглотил таблетку, не запивая.
Еще несколько минут — и можно будет идти домой, не боясь, что припадок свалит на улице. Он обвел взглядом лабораторию, задержался на регистраторе — полностью выяснить природу волны уже не успеть. Оставалось слишком мало времени — куцый отрезок, разделенный несколькими припадками и оканчивающийся либо смертью, либо безумием.
Хьюлетту захотелось схватить что-нибудь тяжелое и разбить этот проклятый приемник, из-за которого он истощил свой мозг. Сколько драгоценных минут и часов отдано ему! В это время можно было бы встречаться с приятелями, веселиться, путешествовать. Или изобретать лекарство против болезни, против проклятой наследственности. И не делать глупостей… Он больно прикусил губу. Он боялся вызвать в памяти лицо своего сына, так похожее на его лицо. Другие дают своим малышам крепкую память, могучее здоровье, воспитывают в них неукротимую волю к победе, необходимую в жестоком, беспощадном обществе. «А я дал Кену свое проклятье, которое сделает его беспомощным. Я не имел права на ребенка! Но я не знал…» — пытался оправдаться он перед собой. «- Я и не мог знать… И потом, не обязательно, чтобы у моего сына проявилось это… Он может не унаследовать болезни. И даже унаследовав предрасположение, он может не заболеть. Если он будет расти и жить спокойно, без психических травм… А кто из нас живет спокойно, без травм в этом мире, где над тобой и твоими родными постоянно висит угроза истребления?» — зло оборвал он себя и ясно-ясно увидел лицо сына с ямочками на щеках. Правая половина лица была немного больше левой. — «Асимметричное, диспластичное», — вспомнил он слова из учебника психиатрии и оцепенел от ужаса.
Что делать? Как спасти сына? Убить его, пока он еще крохотный и ничего не понимает?! Кажется, это единственный выход. Так поступали в Спарте с болезненными детьми, с калеками.