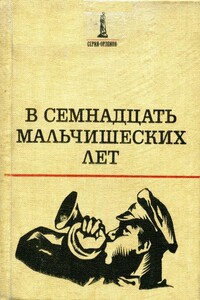Таволга - [7]
Гроза разразилась ливнем. Поле размякло. Выбоину на полосе залило водой. Мы бродили по озерцу, пробивали кольями ямки, чтобы быстрее просочилась вода — сушили полосу.
Бездарным всюду плохо, в авиации невыносимо. Тут ты весь на виду и ясно, чего стоишь не вообще, а именно в эту минуту. Колпаков в столовой кивает: подай хлеб, — хотя мог бы и сам дотянуться до тарелки. Подаю. Жует и смеется, а я уж ничего не слышу — обидно.
Полоса просохла на третий день. Пайвин дал два провозных и передал парашют командиру отряда.
Ничего не могу сказать об этих двух полетах, не оставили следа в памяти. Помню только после первого Пайвин заскочил на плоскость и также быстро спрыгнул. После второго он подошел к проверяющему уже на земле. Тот ответил что-то и ушел к столу руководителя полетов. А я не знал, расстегивать привязные ремни или нет. Вылегжанин и Писарев притащили мешок. Пайвин вытянул два пальца — два самостоятельных. Я как будто еще не совсем понимал, что произошло, и только после второго разворота над золотистым полем подсолнухов увидел бегущую тень самолета, и прорвало — один! Один в воздухе! Я орал, что есть мочи, благо никто не мог слышать, покачивал крыльями — посылал «привет колхозникам», вертел головой, как бы впервые увидел небо, ласковое и дразнящее.
Ах, какое это было утро! После посадки меня окружили, надавали дружеских затрещин. Я ошалел. И только когда Кеша поднялся с кошмы, вспомнил о «Казбеке».
Дарить механику хорошие папиросы в день вылета — обычай. Сколько дней носил в кармане заветную пачку на старт — и наконец-то! Лисицын церемонно разорвал ногтем соединительную наклейку и раскрыл. Кеша одну сунул в рот, другую — за ухо и продекламировал:
Впоследствии у меня было еще несколько событий по силе подобных пережитому в то утро. Но если бы даже их не было, а только бы остались те несколько минут, то и тогда ради них я повторил бы все сначала.
ПАШКИНА ПЕТЛЯ
Вначале Павел Колесов ничем не выделялся среди нас. Потом заставил говорить о себе инструкторов, видавших виды. Он словно бы чутьем улавливал землю на посадке и быстро шел по программе. Его мягкие касания в створе посадочного «Т» вызывали почтение к нему и будили интерес. Говорили, будто по спору он надел башмаком — хвостовой опорой самолета — брошенную заранее в полосу приземления кепку. Походило на правду, в чем я убедился, будучи финишером. При мне он сделал три посадки одна в одну, не подняв неизбежной пыли.
Если я «отдирал козла» или подвешивал самолет на посадке, Пайвин спрашивал, вижу ли землю. Я отвечал: вижу. Как же можно ее не видеть? Земля, она и есть земля. Но однажды, действительно, увидел, и с тех пор садил уверенно, но с Колесовым в сравнение не шел.
С этим Колесовым произошел вот какой случай. Как-то Борис Вылегжанин шепнул:
— Пашка собирается сделать петлю.
— Как петлю?
— Так, петлю.
Колесов ходил в зону — отрабатывал фигуры, но петля в их число не входила. Почему-то именно она, «мертвая» петля, казалась верхом пилотажного искусства, хотя потом мы их крутили во множестве, не находя в том необычного. Своевольничать в воздухе категорически запрещалось. Пашкина подготовка велась в тайне. Я прошел мимо него в квадрате, он держал раскрытым на «петле» КУЛП (курс учебно-летной подготовки) и походил на человека не от мира сего.
— Ждет третью зону, — сказал Вылегжанин.
Наблюдать за самолетом в третьей зоне было трудно — против солнца слезились глаза, и «петля» вполне могла сойти за «боевой разворот» с последующим пикированием. Впрочем, за порядком фигур никто не следил — лишь бы самолет был виден.
Третья зона досталась Колесову на другой день. О его умысле знало больше людей, чем он предполагал, в тесном кругу трудно сохранить тайну.
Мы следили, как он вошел в зону, сделал вираж влево, вираж вправо, штопор влево — выход боевым разворотом, штопор вправо. Потом вошел в пикирование, чтобы разогнать скорость, и пропал в блеске солнца. Долго не могли обнаружить, смотрели не туда, он оказался много ниже — штопорил, то есть падал, как падают, вращаясь, осенние листья. Штопор изучают, как следствие возможной ошибки, и каждый с него начинает зону, ибо, если не уметь выводить, самолет будет падать до земли. В Пашкином штопоре было что-то не так. Давно пора было выводить, а он ввинчивался. Кольнуло альбомное: «Так, значит, крышка, так, значит, амба — любви моей последний час…»
— Где самолет? — спросил инструктор Веригин у наблюдающего.
Тот развел руками.
Квадрат охватила тревога…
Пашка неожиданно вошел в круг. После четвертого разворота оказался под углом к полосе, исправил поздно, промазал, приткнулся за передним ограничителем и чуть не выкатился в подсолнухи.
— Что случилось? — обеспокоился Веригин. — Ты потерял землю?
Пашка, словно не слышав вопроса, прошел в квадрат, выпил две кружки холодной воды и безвольно опустился на скамейку.
Как выяснилось впоследствии, он на петле стал терять скорость, чтобы вывести самолет в верхнюю точку, перебрал ручку на себя и сорвался в перевернутый штопор — случай редкий, если не редчайший, когда самолет вращается и падает вверх колесами, а пилот висит на ремнях вниз головой. Пашку спасло то, что он потерял управление, и самолет вышел из штопора сам, перешел в пикирование.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Валентин Григорьевич Кузьмин родился в 1925 году. Детство и юность его прошли в Севастополе. Потом — война: пехотное училище, фронт, госпиталь. Приехав в 1946 году в Кабардино-Балкарию, он остается здесь. «Мой дом — не крепость» — книга об «отцах и детях» нашей эпохи, о жильцах одного дома, связанных общей работой, семейными узами, дружбой, о знакомых и вовсе незнакомых друг другу людях, о взаимоотношениях между ними, подчас нелегких и сложных, о том, что мешает лучше понять близких, соседей, друзей и врагов, самого себя, открыть сердца и двери, в которые так трудно иногда достучаться.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
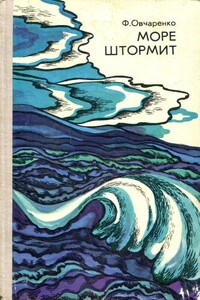
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.

Новая книга Александра Поповского «Испытание временем» открывается романом «Мечтатель», написанным на автобиографическом материале. Вторая и третья часть — «Испытание временем» и «На переломе» — воспоминания о полувековом жизненном и творческом пути писателя. Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом.