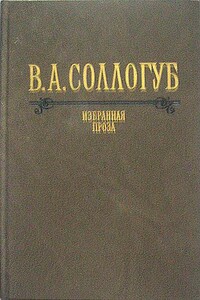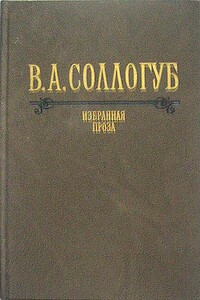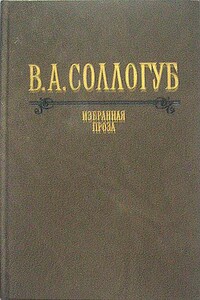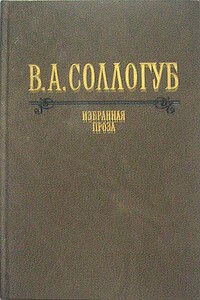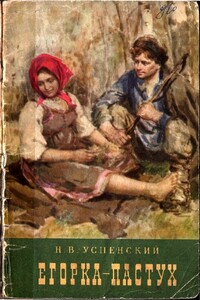Когда я вздумал их остановить, они рассердились и начали уже ругаться. Хохол назвал меня шпионом, а усы вздумали поносить поведение жены моей самым мерзким образом. Ты знаешь, я человек горячий. Правой рукой вцепился я в хохол, а левой в усы, и началась настоящая драка. Нас розняли; мы положили, как водится, стреляться на другой день в Марьиной роще, и я с отчаянием поехал домой. И что же, братец? Я вдруг понял, что люблю жену от души и что если б она и я были иначе воспитаны, то могли бы быть очень счастливы; души наши были неиспорченные, но испорчены были наши привычки; словом, недостаток твердых правил, необходимость светского развлечения ввергали нас в ужасную пропасть. Жена моя недурна собой, петербургская дама. Ее приняли в Москве с восторгом и завистью, превозносили в глаза и терзали заочно. Впрочем, это везде так делается. Она не думала остерегаться. Как-то протанцевала она несколько мазурок сряду с одним офицером. Две, три барыни перемигнулись, два, три шалуна сострили на ее счет, и вот — пылинка раздулась горой. На другой день на Тверской рассказывали, что жена моя явно живет с любовником; на Дмитриевке — что у ней два любовника; на Арбате — что у ней три любовника. Через неделю весть эта дошла и до Замоскворечья и до Красных ворот, но там уже любовники жены моей расплодились до числа баснословного.
Московские барыни возили с собою поддельные письма, рассказывали с чувством и негодованием совершенно невозможные случаи, притом каждая придумывала какое-нибудь слово. Слово делалось при повторении анекдотом, анекдот — романом, и московская чудовищная сплетня принялась широко и размашисто разгуливать по матушке Белокаменной насчет жены моей. Когда приехал я к себе после гадкой драки, мы объяснились с женой. Oнa плакала и жаловалась на гнусные сплетни; я также плакал, ибо чувствовал, что всему виноват, что промотал все до копейки и что мы остаемся нищими. Странно: в эту минуту мы с женой помирились, все друг другу простили, друг друга поняли и полюбили, но жить нам вместе не было никакой возможности. Вдруг стучатся в двери. Это что?
Квартальный и жандармы. Меня велено взять сейчас и отправить во Владимир. У ворот стояла телега. Посадили меня, грешного, и повезли. Женa уехала к отцу в Петербург, а я живу здесь, братец, под присмотром полиции, гуляю на бульваре, смотрю на виды, и вот тебе конец моей простой и глупой истории. Да пойдем-ка ко мнe выкурить трубочку.
— Нельзя, братец, меня дожидается старик мой; и то, я думаю, уже сердится,
— Зайди хоть на минутку. Дай с товарищем душу отвести.
— Нельзя, право... Проводи-ка лучше меня к трактиру. Старик, право, сердится.
И в самом деле, у трактира Василий Иванович сидел уже в экипаже и ворчал что-то про молодых людей. Иван Васильевич мигом вскочил на свое место, и тарантас медленно спустился по горе и отправился снова в туманную даль.
Иван Васильевич сидел в уголке комнаты постоялого двора и грустно о чем-то размышлял. Книга путевых впечатлении лежала перед ним в неприкосновенной белизне.
«В самом деле, — думал он, — отчего в жизни ожидания наши, и желания, и надежды никогда не сбываются?
Загадываешь одно, а выходит противное, и даже не противное, а что-то совершенно другое, неожиданное. В воображении все обрисовывается в ярких, приятных и резких красках, а на деле все сливается в какой-то мутный хаос скучной действительности. Вот, например, долго желал я погулять на Западе, подышать воздухом юга, поглядеть на мудрых людей нашего века, взглянуть поближе на eвропейское просвещение, на современную славу, на все, чем шумят и хвастают люди. И вот пошатался я по Европе, видел много трактиров, и пароходов, и железных дорог, осмотрел многие скучные коллекции и нигде не находил тех живых впечатлений, которых надеялся. В Германии удивила меня глупость ученых; в Италии страдал я от холода; во Франции опротивела мне безнравственность и нечистота. Везде нашел я подлую алчность к деньгам, грубое самодовольствие, все признаки испорченности и смешные притязания на совершенство. И поневоле полюбил я тогда Россию и решился посвятить остаток дней на познание своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно.
Только теперь вот вопрос: как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности — древностей нет. Думал изучить губернские общества — губернских обществ нет. Все они, как говорят, форменные. Столичная жизнь — жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование и крупные пороки. Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом вседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и, хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть, дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются... Вот и все... а там: то смотритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щи сальными свечами пахнут... Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает...