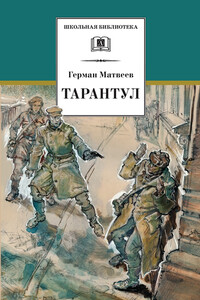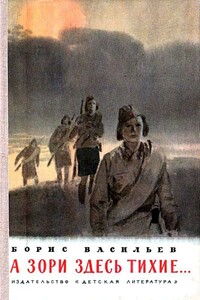Гляжу — навстречу мне Сима. Из лавочки хлеб несет. Идет бледная, глаза заплаканы. Подошла я к ней, взяла за руку, пошли вместе. Молчу, не знаю, что и сказать… И она молчит.
— В школу больше не пойдешь? — спрашиваю наконец.
— Боюсь, прогонит батюшка… Да и мама хворает… Мне бы на работу куда… Не возьмут!..
Помолчали мы.
Я шепчу совсем тихо:
— Сима, у папы твоего нашли что?
— Нашли. Под матрацем прокламаций штук пять… Знаешь, тех, чтоб бастовать…
Сима всхлипнула.
Завернули за угол. У закрытых заводских ворот стоит небольшая кучка рабочих. Вполголоса между собой о чем-то спорят.
И вдруг где-то совсем близко лошадиные копыта застучали. Сима вздрогнула, еще ниже опустила голову, сжалась вся.
— Вот они, проклятые! — шепчет.
Казачий разъезд шагом проехал мимо нас. Рабочие у ворот замолчали. Казаки на них и не взглянули. А вот рабочие… так и вижу их лица, как они смотрят вслед разъезду!..
…Лежу я, все это вспоминаю, уж и не слышу, о чем папа с мамой говорят. А перед глазами — Сима… рабочие… казаки… сердитое лицо батюшки…
Потом все перемешалось, и я не заметила, как уснула.
Вдруг слышу я сквозь сон, будто кто-то мою подушку двигает. Открываю глаза — мама надо мной наклонилась, вся бледная, глаза большие, руками мне что-то под подушку сует. А в соседней комнате шаги тяжелые топают, голоса мужские…
— Мама, — шепчу, — кто там?
— Обыск, деточка. Полиция. Ты спи, авось тебя не тронут.
Не успела мама подняться, входят двое в комнату. А мама:
— Пожалуйста, — говорит, — тут потише. У нас ребенок больной.
А грубый голос отвечает:
— Ладно! Чего это у вас все ребята хворают? Куда ни придешь с обыском, все ребенок больной.
Я лежу ни жива ни мертва, глаза закрыла, будто сплю. Из соседней комнаты кто-то кричит:
— Сначала здесь осмотрим! Всех из той комнаты сюда!
— А тут только хозяйка, да еще ребенок спит.
— Ребенок пусть спит, а хозяйку сюда.
Вышли все и дверь затворили.
Открыла я глаза, вся дрожу. На столе лампа горит, ужин со стола не прибран, постели не смяты. Видно, еще не ложились спать… А за дверью шаги, голоса.
Дух захватило. Ведь не маленькая, понимаю же: найдут на квартире у наборщика шрифт — ясно же, для чего ему шрифт… Плохо будет папе!
Села на кровати, оглядела комнату. Нигде не видно. Да! А зачем мама у меня под подушкой рылась? Сунула я руку под подушку — и обмерла. Там!.. Крепко завязанный в тряпку, колючий…
Будут искать — и в мою постель полезут. Поля рассказывала, все-все перерывают… Нашли же у Симиного отца под матрацем, и у меня найдут… Надо спрятать… скорее… Но куда?!
Дрожу вся, зубы стучат, оглядываю комнату. Нет укромного места! В печку? Найдут. На шкаф закинуть? Слышно будет, да еще уроню… Сил не хватит, тяжелый он!
Сижу на кровати, узел в руках держу, не знаю, что делать! А надо! Знаю — надо! Куда же, куда?!
И вдруг осенило меня. Вскочила я, подбежала к столу на цыпочках, заглянула в глиняный кувшин — большой у нас был. Так и есть, молока в нем еще порядочно. Перенесла кувшин на подоконник. Стала развязывать узел со шрифтом, руки дрожат, сил нет. Узел крепко затянут. А сама так и жду — вот-вот войдут. Не поддается узел. Вцепилась зубами, рванула — развязался! Опустила тряпку одним концом в кувшин. Посыпался шрифт, зашуршал… Так я и застыла… Ничего, ходят там, авось не слышно…
Стало молоко кверху подниматься, тряпку замочило. Разложила тряпку на подоконнике, сыплю горстями, спешу. Поднялось молоко до краев, а шрифта еще много. Как быть? Отлить? Руки трясутся, подниму кувшин, расплескаю, догадаются… Оперлась руками о подоконник, подтянулась к краю кувшина, давай молоко отпивать… Глотаю, давлюсь, в горле застревает. Чуть не поперхнулась. Вдруг шаги к двери… Я и дышать перестала… Нет, отошли!
Всыпала еще две горсти — опять молоко до краев. Снова отпивать стала.
Ух, все там, до последней буковки! И молоко снова наравне с краем. Отпила еще глотка три, тряпку сложила, бросила в раскрытую корзину, где у мамы лоскуты лежали. Сама — юрк в постель. В голове шумит, словно лечу куда-то вместе с комнатой, нехорошо так…
Долго ли пролежала, не знаю… Слышу, отворяется дверь, вошли все. Мама говорит, а у самой голос дрожит:
— Ребенка только не троньте, очень больна девочка!
А кто-то отвечает:
— Девчонка нам ни к чему. А кровать осмотреть надо. Снимите девочку!
— Нельзя, — мама говорит, — тревожить ее…
Слышу, еле говорит, бедная. Так мне ее жалко стало. И сказать-то ей нельзя, что шрифта под подушкой уже нет.
Прикрикнул пристав:
— Берите девчонку! Нечего тут!
Подошел папа. Взял меня на руки, сел на стул. А я притворилась, будто и не чувствую. А у самой сердце выскочить хочет. И у папы руки дрожат.
Слышу, сбросили подушку, роются в постели. Долго шарили.
— Ладно, — говорят, — можете класть.
Положил меня папа осторожно. Незаметно повернулась я так, чтобы лицом к комнате лежать. Самой любопытно посмотреть. Приоткрыла веки, гляжу сквозь ресницы…
Как сейчас вижу — два дворника из соседних домов, понятые. Пристав толстый, усатый, красный. И пуще всего что-то мне его руки запомнились — пальцы короткие, пухлые, как обрубки. Всюду он ими щупал; ходит и щупает по всей комнате, ходит и щупает, пока околоточный с городовыми в вещах роются. И еще какой-то… шпион, наверное. Этого до сих пор забыть не могу. Все улыбается, голос сладенький, будто ласковый такой, а у самого глаза, как у лисицы, так и бегают, так и сверлят. И как это он не заметил, что я сквозь ресницы за ним наблюдаю?
![Три девочки [История одной квартиры]](/storage/book-covers/b5/b52d42d7e63cb7ebb85862600ee7bf0325c5a84b.jpg)