Святые горы - [17]
Гаупт… Бум-трах-бах… Хинкельман.
А кто она — знает целый дом, весь переулок, все деревья в парке напротив университета; да и в самом университете кое-кто, например ректор, а профессоров, почтительно раскланивающихся с ней, не перечесть.
В той квартире, в которой Юлишка с утра до вечера поддерживала огонь в семейном очаге, ей посмели задать возмутительный вопрос: кто она? Да любая дощечка в паркете, любая чашечка в сервизе, любая царапинка на подоконнике способны ответить — кто она! Она вынянчила Юрочку, она выходила после болезни Александра Игнатьевича… Она… Да без нее дом бы рухнул, все бы перессорились.
Но кузнечик не собирался расспрашивать ни дощечки, ни чашечки, ни — тем более — деревья в осеннем парке. Он жестко повторил вопрос:
— Ты кто такая есть? Собака принадлежит тебе?
Юлишка брезгливо сморщилась. Рэдда не принадлежала ей, но все-таки она была скорее ее, чем навозного жука, который крепко держал ошейник.
— Да, — расцепила челюсти Юлишка, — собака моя, и выкрадывать ее дурно. Я пожалуюсь вашему начальству.
Впервые она присвоила чью-то собственность.
Что-то нелепое произошло в ее жизни. Немало лет она провела среди чужих вещей и готова была лучше умереть с голоду под забором, чем совершить грех и опозорить свое честное имя. И вот теперь она совершила этот грех и опозорила свое честное имя, — и мир не перевернулся.
— Откуда у тебя такая породистая собака? — улыбнулся тонко кузнечик.
Он загонял Юлишку в тупик, потому что догадался, с кем его свела судьба. Еще заупрямится, возись потом с ней. О, эти славяне!
— Сусанна Георгиевна подарила.
— Ах, козяйка? — иронически спросил кузнечик, выдав, между прочим, свою фонетическую — иностранную — беспомощность при произнесении русского звука «ха».
— Да, хозяйка, у которой я служу. Я домработница.
Она решила придерживаться версии, выдвинутой самим кузнечиком. Она не позволит копаться в своих отношениях с семьей Александра Игнатьевича. Для немца она обыкновенная домработница.
Александр Игнатьевич и Сусанна Георгиевна поразились бы, услыхав, что говорит Юлишка. Домработница? Они не любили это слово.
— Служила, — поправил кузнечик. — Ты вкусно варишь? — спросил он.
— Да, я прекрасно варю, прилично пеку пироги, но жарить не берусь, не умею, — с вызовом ответила Юлишка.
— Отлично! — обрадовался кузнечик, не уловив насмешки. — Твое имя?
Экий, теперь ему имя понадобилось. Юлишка недоумевала: к чему он клонит? Но он клонил к чему-то.
— Юлия Паревская, — вылетело у нее.
Матка боска, еще одна ложь. Какая она Паревская, и вместе с тем она не могла не произнести фамилию Фердинанда.
— Постой, постой, — взмахнул ладонью кузнечик совсем по-русски, — ты не русская?
И вдруг Юлишка уже абсолютно сознательно солгала, в третий раз. Ей в то мгновение до смерти захотелось стать русской.
Это не была ложь во спасение. Это не была ложь во благо. Это не было невинной или святой ложью. Эта ложь как-то укрепляла ее связь с Александром Игнатьевичем и вообще с прошлой, довоенной, счастливой жизнью.
И она ответила:
— Нет, я русская.
И мир опять не перевернулся.
— Зачем тебе дорогая собака? Тебе ее питать нечем. У меня она будет сыта. Поиграй с ней. Приучи ее ко мне.
Да, Рэдда упрямая, преданная, выдержанная, такая же, как я, с гордостью подумала Юлишка.
— Ну что? Даришь собаку?
«Даришь — смылся в Париж!» — дразнился в подобных случаях рыжий Валька.
Юлишка молчала.
— Я тебе дам крупу, сахар, консервы.
Если бы кузнечик умел читать мысли, он бы прочел в голове у Юлишки, как на телеграфной ленте: уди-ви-тель-но-е пле-мя не-мцы. С необычайной легкостью они распоряжаются чужими вещами. Как непослушные дети. Переместили без позволения мебель, выкинули шкаф, погубили книги и вдобавок ни капельки не стыдятся выклянчивать подарки. А если им с достоинством отказывают, пытаются подкупить. Уди-ви-тель-но-е пле-мя!
— Ну, повелевай, чтобы она подошла. Повелевай! — И в голосе кузнечика скрипнуло нетерпение. — Как кличка?
— Рэдда.
— Рэдда? Англичанка?
— Английский пойнтер.
— Пусть будет Рэдда. Рэдда, Рэдда, — позвал он.
Собака рванулась — и сникла, рванулась — и сникла, спрятав морду в лапах.
— Она голодная, — нагло и глупо заявил кузнечик, — покорми ее, Маттиас, — и он жестом отослал навозного жука в кухню.
Рэдда могла не есть по нескольку суток, но в чужой миске пищу и не обнюхает. Умрет еще, испугалась Юлишка и сделала инстинктивное движение в сторону кухни, из чего кузнечик легкомысленно заключил, что через педелю получит прирученного пса. Ведь ему, гауптшарфюреру Хинкельману, случалось обламывать и не такие экземпляры. Все это у него было написано на физиономии — Юлишка безошибочно прочла.
— Ну ладно, расскажи мне тогда о своих хозяевах.
Кузнечик выдернул из ящика тумбочки пачку фотографий, стасовал их, как колоду карт, и непередаваемо ловким движением опытного шулера раскинул веером:
— Они?
Где он достал, проныра? Альбомы-то Юлишка сама положила в чемодан.
— Они, — удовлетворенно растянул рот кузнечик. — Они.
Он снова стасовал колоду.
Мелькнули светлая улыбка Сусанны Георгиевны, стриженая челка Сашеньки, высокий лоб Александра Игнатьевича, белый воротник Юрочки и еще что-то близкое, почти родное. Юлишке вдруг полегчало на душе. Сердце разжалось от сознания, что они, эти люди, не должны вот так просто, за здорово живешь, забыть ее и что они ее не забудут, никогда не забудут там, в неведомой эвакуации, в Северном Казахстане, на краю света. Лица улыбались с открыток добрые, довоенные, вон и моя панама, и Юлишка улыбнулась им тоже, как по утрам, за завтраком.
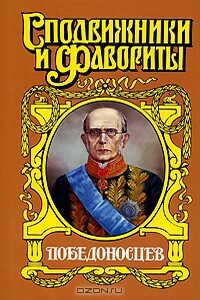
Новая книга известного современного писателя Юрия Щеглова посвящена одному из самых неоднозначных и противоречивых деятелей российской истории XIX в. — обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву (1827–1907).
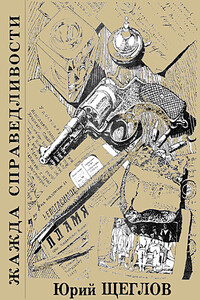
Юрий Щеглов. Жажда Справедливости: Историческое повествование. Повесть. / Послесловие: М. Шатров.Журнальный вариант. Опубликована в журнале Юность. 1987, № 11. С. 13–35.Повесть «Жажда Справедливости» знакомит с малоизвестными страницами гражданской войны на Севере России. Главный герой — сотрудник Наркомвнудела, крестьянин по происхождению и городской пролетарий по образу жизни. Восемнадцатилетний Алексей Крюков принял революцию как событие, знаменующее собой становление нового общества, в котором не только принимаются справедливые законы, но и выполняются всеми без исключения.Безусловно, историческая проза, но не только: вопросы, на которые ищет свои ответы Алексей, остаются и сегодня по-прежнему злободневными для людей.
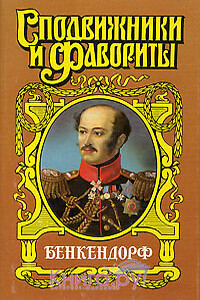
До сих пор личность А. Х. Бенкендорфа освещалась в нашей истории и литературе весьма односторонне. В течение долгих лет он нес на себе тяжелый груз часто недоказанных и безосновательных обвинений. Между тем жизнь храброго воина и верного сподвижника Николая I достойна более пристального и внимательного изучения и понимания.

Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
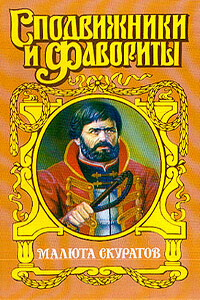
На страницах романа «Вельможный кат» писатель-историк Юрий Щеглов создает портрет знаменитого Малюты Скуратова (?-1573) — сподвижника Ивана Грозного, активного организатора опричного террора, оставшегося в памяти народа беспощадным и жестоким палачом.
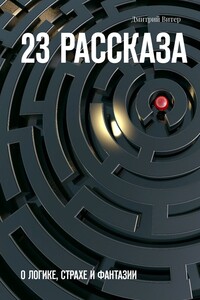
«23 рассказа» — это срез творчества Дмитрия Витера, результирующий сборник за десять лет с лучшими его рассказами. Внутри, под этой обложкой, живут люди и роботы, артисты и животные, дети и фанатики. Магия автора ведет нас в чудесные, порой опасные, иногда даже смертельно опасные, нереальные — но в то же время близкие нам миры.Откройте книгу. Попробуйте на вкус двадцать три мира Дмитрия Витера — ведь среди них есть блюда, достойные самых привередливых гурманов!

Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Воробушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколения.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
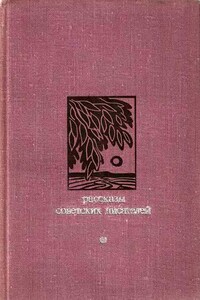
Существует ли такое самобытное художественное явление — рассказ 70-х годов? Есть ли в нем новое качество, отличающее его от предшественников, скажем, от отмеченного резким своеобразием рассказа 50-х годов? Не предваряя ответов на эти вопросы, — надеюсь, что в какой-то мере ответит на них настоящий сборник, — несколько слов об особенностях этого издания.Оно составлено из произведений, опубликованных, за малым исключением, в 70-е годы, и, таким образом, перед читателем — новые страницы нашей многонациональной новеллистики.В сборнике представлены все крупные братские литературы и литературы многих автономий — одним или несколькими рассказами.