Священное ремесло. Философские портреты - [141]
После Катулла или Горация он любил прочесть что-нибудь по-итальянски, утверждая, что только в их латыни уже можно расслышать язык Петрарки. Вслед за голосом в памяти возникает его поразительное лицо, так неожиданно напоминавшее многим Рабиндраната Тагора. Облик Якова Эммануиловича, когда потом я вспоминал его, стал для меня с годами ликом или «смыслообразом» самой его мысли, его судьбы: высокий белый лоб, окруженный серебром волос и бровей, глаза чуть навыкате, напряженный взгляд, обращенный на невидимого собеседника в отдаленных веках и чуть застывший в состязании диалога, чуть разочарованный, когда собеседник напротив оказывался кем-то иным. Пробеседовав часа три, обежав три раза вокруг Олимпа, углубившись в дубовые рощи немецких романтиков, мы вдруг круто сворачивали в самую неожиданную сторону: к Тютчеву, к Достоевскому, а от него – зигзагом снова к Канту (напечатанная книга имела еще несколько устных, проговоренных вариантов) или, скажем, к Сократу, затем вдруг к Ленину; в поисках истины и тот и другой обратились к искусству маевтики, в их мыслительных приемах есть некоторое сходство (тогда, Ленина еще не читав, я не догадался спросить, за что, собственно, Сократ пригласил его в сотрапезники своей мысли), но Сократ никогда не брался за рычаг политики и потому поплатился за свое искусство собственной смертью… Ленин же взялся за этот рычаг, насилием погубив свою мысль…
– Для меня революция, сделанная в октябре, просуществовала два месяца, – заявлял он внезапно и твердо, отвлекаясь от предметов, о которых стоило говорить. – До декабря 1917. Как только была организована ЧК, я сказал себе: с революцией покончено. Начинается террор, подлость, измельчание человека. «Свинство рябых Калигул», как говорил Борис /Пастернак – В. 3./. Мне это стало неинтересно.
– Тогда почему вы вернулись из Германии, куда отправились в конце 20-х годов?
Как я теперь понимаю, это был трудный для него вопрос. Как ему – с его старой университетской выучкой, немецкой ученостью и героической эллинской статью – было проходить сквозь наши пустозвонно двадцатые, стальные тридцатые, лихие сороковые, душные пятидесятые и последние трескучие шестидесятые годы, равно истребительные для его, Голосовкера, мысли? Почему он вернулся – о том, вероятно, он не раз спрашивал себя сам. И отвечал как бы обходным манером – скорее себе, чем собеседнику:
– В то время легко было получить паспорт. И многие уезжали насовсем. Но я вернулся. Почему? Ну, что сказать? – была женщина (он выговаривал это с усилием), которую я любил. А потом – как-то не верил я, что все это так надолго. Мне Лосев говорил еще тогда: «Что вы, Яков Эммануилович, все бунтуете? Эта история с большевиками лет на двести…». Для меня это было немыслимо, я не хотел верить, думал, все скоро кончится. Не верю и сейчас. Сколько у нас прошло этой «новой эры»? Сорок четыре года? Ну, лет двадцать пять-тридцать еще, может быть, и протянется. Пусть государство у нас дурак, не может же оно всех поголовно сделать дураками. На двести лет – не может. И потом: Запад Западом, но меня все время тянуло в Россию.
Тот сюжет его жизни, который был связан с женщинами (привлекательность которых отнюдь не проходила мимо его взгляда) и бессемейственностью, остался для меня нераскрытым.
«Я пожертвовал любовью, писал он в Мифе моей жизни (после того, как узнал, что все труды его сожжены), – любовью в том смысле, в каком я понимал подлинную любовь. Я любил, любил, как, быть может, не умеют уже любить в XX веке, но еще умели любить в XVIII – и я отдал любимую женщину в жертву пошлости, банальности, комфорта. Я стоял перед выбором: любимая женщина или мое дело… Это была большая жертва – жертва счастьем, жертва душой. На некоторое время я окоченел, чтобы пережить разлуку. Такая жертва должна была быть оправдана. Она не оправдана. Моя нужда, нищета, одинокость, покинутость – не оправдана. Вот почему моя исповедь не мораль, а жизнь».
Но и в старости он любил поговорить о любви. В высоком и драматическом смысле, с присущей ему примесью романтической иронии.
За «интересным разговором» иногда заезжал его племянник, известный уже в ту пору историк Сигурд Оттович Шмидт – нанести визит, а заодно подбросить новости и продукты, и тогда между ними начинался тот диалог эсхиловского Прометея с эсхиловским же Гермесом, тот турнир трагедийного юмора, который я в ту пору не догадывался записать. «Строптивостью такой и своеволием корабль свой ты загнал уже на камни бед». «Мои страдания, слышишь, не сменяю я на услужение Зевесу. Да не будет так!» (Строптивость означала хроническую неуживчивость, вздорную непрактичность, неумение ладить с редактором, нежелание найти нужный тон с директором Гослитиздата и т. п. «Зевес» подразумевал систему вообще, Академию наук в частности, конкретно же – карьеру, диссертацию и партийность). Яков Эммануилович был царственно, хотя порой несколько тяжеловесно ироничен; его собеседник, в доспехах более легких, тоже не оставался в долгу.
Все высокое было ему по росту, сценическое, но безо всяких масок, как-то к нему очень шло. Он строил культуру, но и сам был явлением культуры, отлично сознавая это. Он не был просто обладателем знаний, в каком-то смысле он сам был воплощенное знание. Доблестное, титаническое, печальное, седое и, как многим казалось со стороны, никому не нужное знание. Знание отливалось в тексты и беседы, дышало, мучилось, шутило, беседовало с друзьями, ходило в магазин. В его манере говорить о книгах, о природе, о людях и даже о пище, добротности которой он всегда уделял большое внимание, была своего рода чистота и законченность стиля. Перечитывая теперь – через десятки лет –

Читателям, помнящим события литературной жизни СССР, наверняка знакомо имя критика Корнелия Зелинского. Книга «Разговор с отцом» принадлежит перу его сына – священника, религиозного писателя, публициста. Очевидно, что мировоззрение современника Октябрьской революции, коллективизации, сталинских репрессий и взгляд на жизнь человека, родившегося в 1942 году и принявшего сан, мало в чем совпадают. Но любовь важнее идейных разногласий и помогает нам понять, что примирение не означает отмены различий, а является их искуплением, «посильным возмещением в одной жизни того, что было упущено в другой».
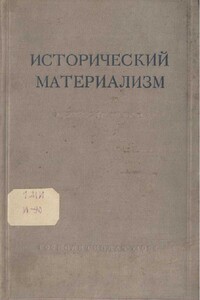
Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.

В условиях сложной геополитической ситуации, в которой сегодня находится Россия, активизация собственного созидательного творчества в самых разных областях становится одной из приоритетных задач страны. Творческая деятельность отдельного гражданина и всего общества может выражаться в выработке национального мировоззрения, в создании оригинальных социально-экономических моделей, в научных открытиях, разработке прорывных технологий, в познании законов природы и общества, в искусстве, в преображении человеком самого себя в соответствии с выбранным идеалом и т.

Автор книги — писатель-натуралист, доктор биологических наук, профессор зоологии. Всю жизнь посвятил изучению природы и ее животного мира. Теперь, в канун своего девяностолетия, как и многие, обеспокоенный судьбами человечества, написал эту, свою последнюю пятьдесят четвертую книгу, по необычной для него теме — о природе человека. Она предназначена для широкого круга читателей.
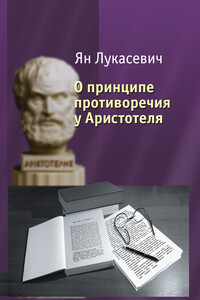
Книга выдающегося польского логика и философа Яна Лукасевича (1878-1956), опубликованная в 1910 г., уже к концу XX века привлекла к себе настолько большое внимание, что ее начали переводить на многие европейские языки. Теперь пришла очередь русского издания. В этой книге впервые в мире подвергнут обстоятельной критике принцип противоречия, защищаемый Аристотелем в «Метафизике». В данное издание включены четыре статьи Лукасевича и среди них новый перевод знаменитой статьи «О детерминизме». Книга также снабжена биографией Яна Лукасевича и вступительной статьей, показывающей мучительную внутреннюю борьбу Лукасевича в связи с предлагаемой им революцией в логике.

Пушкин – это не только уникальный феномен русской литературы, но и непокоренная вершина всей мировой культуры. «Лучезарный, всеобъемлющий гений, светозарное преизбыточное творчество, – по характеристике Н. Бердяева, – величайшее явление русской гениальности». В своей юбилейной речи 8 июля 1880 года Достоевский предрекал нам завет: «Пушкин… унес с собой в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». С неиссякаемым чувством благоволения к человеку Пушкин раскрывает нам тайны нашей натуры, предостерегает от падений, вместе с нами слезы льет… И трудно представить себе более родственной, более близкой по духу интерпретации пушкинского наследия, этой вершины «золотого века» русской литературы, чем постижение его мыслителями «золотого века» русской философии (с конца XIX) – от Вл.
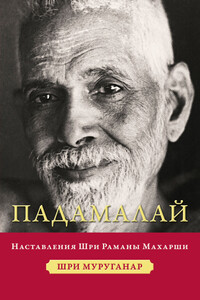
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.