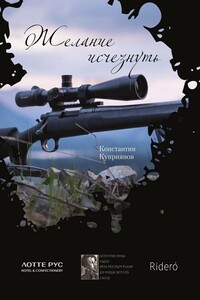Свое время - [33]
»).
Драма разыгрывается в гиперреалистически поданном современном антураже, а чувства – оттуда. Такая брутальность безопасна и является скорее приоткрытой беззащитностью человеческого: вся психодрама остается «за прозрачным стеклом» отстраненности, неготовности к сотрудничеству с внешним – даже в форме конфликта. Симптомы подобного соотношения с окружающим (последнее слово обозначает процесс) – асоциальность и дискредитированность прямого пафоса.
В воспоминаниях о дорогих покойниках их часто называют по имени; в этом нередко слышатся шумы неточности, дребезжание фальши, фамильярность. Хотя, казалось бы, а как еще называть человека после его смерти, если не так, как и при жизни? Стóит попытаться уточнить интонацию звучания слова «Андрей» в случае Туркина: обращаясь к знакомому человеку, мы настраиваемся на его тон, волну… это должно быть еще и эхо его интонации.
Как-то мы шли с женой в предзакатный субботний час по окраинному кварталу в Иерусалиме. Суббота: тишина, обвальный покой, кто-то прогуливается, греется на скамеечке, детишки визжат на площадке. Мы плывем по фарватеру улицы, и я вижу, по ходу движения, краем глаза, некую сцену… как и все остальное вокруг и внутри, вполне медитативную или словно в воде или в невесомости. У тротуара – мужская фигура, полусидит, полулежит… над ней склонилась женщина, и оттуда, над довольно путанной динамической композицией, возникает, как клин журавлей, усталый чистый голос – слова на родном языке: «Андрей, вставай… Ты на улице лежишь, Андрей…»
Игорь Алейников: конструктивистская угловатость, замедленный взгляд цвета светлого меда, застенчивая улыбка. Его младший брат Глеб – юный, лет девятнадцати – на редкость краснощекий. В них чувствовалось родовое здоровье, как у хорошего сорта яблок.
У широкого мутного окна с видом на ТЭЦ изнутри, в вохровской каптерке, на втором этаже над главной проходной, между сейфом с карабинами и комнатой «начальника караула», по ходу многочасовых бесед, обмена книгами и «материалами» я взялся редактировать с литературной стороны начинавшийся тогда журнал параллельного кино «Сине Фантом». Игорь участвовал – кино и мультфильмами – в вечерах группы «Эпсилон» в клубе «Поэзия»… Заходил к братьям домой, они жили в одной большой комнате со столом посередине, заваленным бумагами и полуразобранной, кажется (с этого расстояния плохо видно), фотоаппаратурой… Что-то вроде редакционной конторы или мастерской… в квартире с родителями где-то на Красной Пресне. Были и вечера у меня дома, с их мультфильмами: жизнеутверждающее порно кончающего тюбика с зубной пастой –
Если бы Игорь был из провинции, тогда, наверно, еще яснее проступило бы то, что в нем светилось, чем он лучился: он был самородок, то есть самопородившийся чистейший слиток внутренней содержательности. В его глазах и движениях, казалось, все время переливается непреходящее удивление перед этим – понятым им – событием, живущим в нем, и осторожная внимательность к тому громоздкому, что внутри. От такого человека возникает, снаружи, впечатление странности, легкой неловкости… Но одновременно в Алейникове не было мрачной тяжести, во всяком случае направленной вовне. Он, так же, как и Туркин, был все время словно на отлете… одно из наших характерных общих свойств – отстраненность.
Хотя – отстраненность от чего? Скорее, погруженность в свое… Больше всего – в свое дело: литературу, кино, «арт». И, по-видимому, это был второй и пока последний по интенсивности период пересечения и переплетения в России чуть ли не всех родов искусств – после десятых-двадцатых годов ХХ века. Редкое время по интенсивности общения всех со всеми, совместных действий. Уникальное и по взаимному порыву: нас – к публике, публики – к нам. Внутри этого мира, внутри жизни в своем, ненавязанном, человеческом и художественном пространстве, мы были самодостаточны, а не «отстранены».
Да и отстраняться было, в общем-то, не от чего. Популярные определения того, что мы собой представляли, «вторая» и «параллельная» культура – предполагают культуру «первую» или некую центральную, «главную». Но так происходит в здоровом социуме, где «мейнстрим» является какой-то формой культуры, пусть опопсованной, примитивной и мутантной, скрещенной с коммерцией и т. д. А страта, аналогичная нашей, там является художественным и/или социальным, политическим авангардом. Мы в большой степени были этим художественным авангардом, но место мейнстрима занимала… – что? прореха, культурное ничто, серая дыра…
В это трудно поверить, как же – десятки лет, сотни талантливых людей, многие из которых в других условиях, используя свой дар по назначению, а не только как средство к достижению социального успеха, написали бы что-то более или менее замечательное… Одна знакомая поэтесса, давно живущая в Нью-Йорке, рассказывала, как Иосиф Бродский, один из самых проницательных читателей второй половины прошлого века, попросил ее на рубеже восьмидесятых-девяностых – достать подборки стихов из лучших советских литературных журналов лет за десять. Она совершила этот нелегкий труд и была очень разочарована и обижена – по-человечески справедливо – когда в течение долгого времени не было никакой реакции. Она позвонила ему и спросила, прочитал ли он то, что… Да, – ответил Бродский. – И как? – Никак. Совсем. Вообще нет ничего, ни одного текста. – Точка. Многоточие… Надежда Константиновна умирает последней.
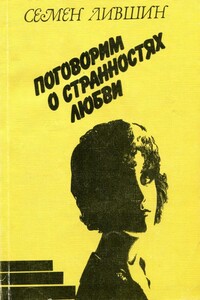
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
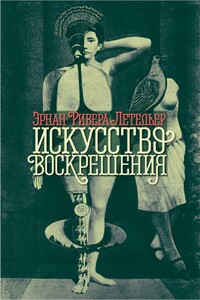
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

Удивительная завораживающая и драматическая история одной семьи: бабушки, матери, отца, взрослой дочери, старшего сына и маленького мальчика. Все эти люди живут в подвале, лица взрослых изуродованы огнем при пожаре. А дочь и вовсе носит маску, чтобы скрыть черты, способные вызывать ужас даже у родных. Запертая в подвале семья вроде бы по-своему счастлива, но жизнь их отравляет тайна, которую взрослые хранят уже много лет. Постепенно у мальчика пробуждается желание выбраться из подвала, увидеть жизнь снаружи, тот огромный мир, где живут светлячки, о которых он знает из книг.