Свое время - [2]
Где-то дальше за парком начинались переулки у Покровского-Стрешнева, бывших дачных мест, где Карамзин писал «Историю Государства Российского», куда Лев Толстой приезжал к своей невесте, а в лучшие системообразующие годы нашего, советского, мира был лагерь зэков, строивших канал «Москва – Волга». Вместить это, наследовать цивилизационному интеллектуальному усилию, человеческому шепоту-легкому-дыханью и одновременно ГУЛАГу – и жить с этим без катастрофических последствий для личного мозга и коллективного сознания – возможно ли? Вот наша задача…
52-я больница, продолжение границ ойкумены – место, где умер прадед, в середине шестидесятых годов, а потом его дочь, бабушка с материнской стороны, Бабушка Зина. Белые корпуса среди березок за бетонным забором, их транзитная станция в сторону кладбища. Эти «корпуса» – словно смутная, со смещением масштабов, визуальная репетиция надгробных плит.
Здесь же я лежал и умирал в отдельном боксе в семнадцать лет, заболев неведомой болезнью – пока не выяснилось, что это корь. Несколько дней была температура сорок, шла кровь из носа, без остановки (на что врач, хмыкнув, сказал, глядя в заполняющийся тазик: «Знаешь, сколько у тебя крови? Вся не вытечет, только полезно»). Никаких специальных симптомов не было, никто не знал, что делать, – и ничего не делалось, кроме изоляции в отдельной палате и недопущения родных.
Палата была на высоком первом этаже, окно открыто. Я лежал в полубреду, почти не в силах двигаться и говорить, лицом к двери, окно было в паре метров за головой. Как-то там, за окном, раздался голос мамы, зовущий меня, и я услышал скрежет ногтей по жестяному подоконнику. Она пыталась забраться, но соскальзывала, не могла зацепиться. Один из звездных моментов ее любви ко мне, знавшей и плохие дни.
День на четвертый-пятый пришел старенький доктор – вполне в духе сюжетов советской литературы и кино, по-моему, он даже был с бородкой клинышком – и сказал, что это корь. На следующий день диагноз подтвердился симптомами – сыпью… Одно из последствий – я узнал, как реагирую на приближение смерти. Еще через несколько лет прочитал у какого-то западного средневекового историка описание, как воины разных народов и религий встречают смерть, и увидел, что встречаю – по-русски. Я тогда писал цикл стихов о Смутном времени, который остался в черновиках: что-то было «не то», ложно в общей постановке, диспозиции обращения к такой теме… Может быть, это есть и в стихотворении – вариациях на тему встречи со смертью «по мотивам» средневековой хроники:
Это все были северо-западные края ойкумены. С юго-востока лежал пустырь. Там одной зимой жил беспризорный пес, с которым мы друг другу симпатизировали. (Такая история есть в детстве, вероятно, чуть ли не у каждого, как замученный на даче ежик или покупка гуппи на Птичьем рынке. Вчера двенадцатилетний сын рассказал мне, что по дороге на автобус в школу – на улице Рут в Иерусалиме – у ворот одного из домов его встречает черный кот и провожает метров сто до угла большой улицы, тут кот поворачивает обратно, возвращается в свой сад… – Вы разговариваете? – Да. Немного…)
Вылетая из каре пятиэтажек на открытое пространство пустыря по ледяной дорожке (почему-то именно в этом месте была одна особенно длинная «взлетная полоса»), я приносил своему приблудному другу несколько косточек. Потом он куда-то пропал с пустыря наших встреч, но эмпатическая нота этой случайной связи – вот, осталась, то ли «собачий вальс», то ли щекочущий слизистую оболочку шлягер из «Генералов песчаных карьеров».
От пустыря на восток уходила большая улица, носящая имя маршала бронетанковых сил Рыбалко. (Как я сейчас выяснил, в честь грозного маршала с мирной украинской фамилией назван, среди прочего, и теплоход, совершающий круизы по Днепру. Прогулочный лайнер «Рыбалко» – это было бы и само по себе красиво, даже без чинов… Хотя компания теплоходов для досуга, как сообщает интернет-страничка, посвященная лайнеру (http://www.cruise.liko.ru/ribalko.htm), там собралась высокопоставленная, как в лучшем закрытом санатории Минобороны: «В навигацию круизы совершают 4 теплохода: “Маршал Рыбалко”, “Маршал Кошевой”, “Генерал Ватутин” и “Принцесса Днепра”».)
На улице Рыбалко был книжный магазин, то есть обычный брежневских лет симулякр, аналог продуктовых: консервы – школьная классика, макароны – специальная учебная литература. Но в в глубине и вбок, в дальнем ответвлении, было дупло живое место, даже в своем роде чудесное… по крайней мере в последние дни августа.
Мы только что вернулись с дачи, где в похолодевшем воздухе под посеревшим небом слышнее перестук поездов на железной дороге, будто тиканье часов в опустевшей квартире. Под насыпью, во рву некошенном звенит, тренькает по битым бутылкам и шлепает по использованным презервативам дождик… Конец сезона танцплощадок: сладко-порочное, как портвейн с халвой, уханье местного ВИА со стороны заката над лесом за станцией Поварово, «She’s got it…»
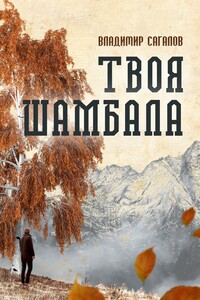
Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.