«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - [4]
Что же касается иных, «неклассических» его разновидностей (ограничимся пока странами Западной Европы), то они являют собой как раз то, что можно было бы назвать типологическими вариантами, или, лучше сказать, «типологическими вариациями», этой теоретической модели, представляют как бы ступени приближения к ней.
Во избежание недоразумений сразу же заметим, что различие «классических форм» и «типологических вариаций» носит сугубо познавательный, понятийно-терминологический характер и ни в коем случае не может служить критерием эстетической оценки. Оно призвано установить лишь степень «чистоты», «классичности» изучаемого явления или же, напротив, меру его «неправильности». Однако сама по себе «чистота» литературного направления не говорит еще о его художественной ценности. Величайшие творения искусства нередко возникают как раз на сломе традиций – в итоге синтеза разнородных, подчас противоположных начал. Достаточно назвать имена Данте, Шекспира, Гете – писателей, которых невозможно прикрепить к какому-то определенному направлению. Русская литература XIX в. была сплошь «неправильной» с точки зрения западноевропейского художественного опыта, однако это нисколько не умаляет ее величия. Точно так же признание того факта, что перед нами «национальная вариация» литературного направления, а не его «классическая форма», менее всего может оскорбить чьи-либо патриотические чувства, нанести ущерб национальному престижу. Байрон был величайшим романтическим поэтом, хотя и гораздо менее «чистым» романтиком, нежели Новалис.
Предлагаемое разграничение понятий не является, по сути дела, чем-то принципиально новым. Его молчаливо признают авторы ряда систематических курсов по истории литературы, театра, изобразительного искусства. Характеризуя, например, такое художественное направление, как ренессансный реализм, они вовсе не занимаются «обобщением особенностей», присущих его национальным разновидностям, но берут за основу искусство Италии – классической страны европейского Возрождения, – а затем отмечают своеобразные черты и отличия Ренессанса во Франции, Германии, Англии, Испании. Причем отличия эти сводятся к тому, что сущностные черты ренессансного реализма воплощаются в других странах, в других национальных литературах менее последовательно и полно, чем в литературе итальянской.
Так, немецкому гуманизму, носившему по преимуществу ученый, книжный, филологический характер, был, в общем, чужд «идеал всестороннего развития сильной человеческой личности, языческого сенсуализма, новой светской культуры» [8. С. 308] (а ведь это и составляло, можно сказать, душу ренессансного реализма). Питая особый интерес к богословским вопросам, немецкие гуманисты во многом опирались на литературные традиции средневековья, от которых с презрением отворачивались гуманисты в Италии (см. [9. С. 212–220]). Вообще, в Германии «человек не пришел к тому гордому сознанию присущей ему высшей красоты телесного и духовного начала, которое выражали в своем учении теоретики итальянского Ренессанса и воспроизводили в художественных образах итальянские мастера» [10. С. 106].
Неудивительно, что многие важнейшие черты ренессансного реализма представлены в немецком искусстве словно бы в ослабленном виде или даже отсутствуют вовсе, ибо немецкий Ренессанс испытывал сильнейшее воздействие средневековой культуры и был теснейшим образом связан с нею. Так называемое Северное Возрождение (т. е. Возрождение северных по отношению к Италии европейских стран) представляло – как это сейчас все шире и чаще признается – своеобразный синтез, сплав «южных», собственно ренессансных начал и национальных, позднесредневековых, готических традиций. И потому теоретическую модель ренессансного реализма естественнее было бы создавать в результате изучения художественного опыта Италии, а не на основе общности итальянского и, скажем, немецкого искусства. Сам уровень развития ренессансных начал в обеих странах был различен.
Немалое значение имеют также хронологические границы итальянского и северноевропейского Возрождения. В Италии на протяжении трех столетий Ренессанс пережил несколько существенно различных стадий и в XVI в., когда Возрождение стало развиваться в большинстве других западноевропейских стран, клонился к закату. Но северные соседи итальянцев воспринимали ренессансные традиции обобщенно, суммарно, целостно. Ведь в других европейских странах эпоха Возрождения намного сократилась, сжалась иногда до нескольких десятилетий. Это был, как теперь говорят, «ускоренный» Ренессанс.
Итак, меньшая определенность и выраженность собственно ренессансных начал, их тесное сочетание и активное взаимодействие с традициями предшествующего этапа художественного развития (поздняя готика), относительная «сокращенность» эпохи Возрождения и в связи с этим нерасчлененное, целостное восприятие итальянского (классического для данного направления) художественного опыта – все эти особенности в высшей степени характерны и важны для понимания того, что́ представляют собой типологические вариации ренессансного реализма по сравнению с его классической формой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
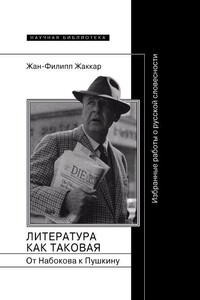
«Литературой как таковой» швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар называет ту, которая ведет увлекательную и тонкую игру с читателем, самой собой и иными литературными явлениями. Эта литература говорит прежде всего о себе. Авторефлексия и автономность художественного мира — та энергия сопротивления, благодаря которой русской литературе удалось сохранить «свободное слово» в самые разные эпохи отечественной истории. С этой точки зрения в книге рассматриваются произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Д. И. Хармса, Н. Р. Эрдмана, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.