Свет в окне - [45]
Ольке мешал фильмоскоп, который она все еще держала в руках и боялась уронить. Наконец Дора разжала объятия. Сняв шубу, она оказалась высокой и сутулой худощавой старухой, очень живой, с мелкими и быстрыми движениями. Только обилие морщин, пожалуй, и делало ее старухой, все остальное в Доре: губная помада, ярко-черные волосы без единой сединки да та же модная шуба – старуху отрицало. Единственное, что внешне роднило ее с сыном, был высокий рост. Темные блестящие глаза смотрели радостно и тревожно. Метнулась к чемодану: «Я вам тут подарки привезла…», но Таечка остановила: «Завтра, завтра. Прошу за стол, что бог послал».
Ольке стало неловко от того, как фальшиво прозвучали слова, тем более что мать накупила в кулинарии кучу вкусных вещей.
– Вот как раз и к столу, – Дора вытащила увесистый промасленный пакет, – Володенька сало очень любил, когда был маленький. У вас тут разве бывает такое сало? – добавила горделиво.
Дора ловко отрезала несколько нежных розоватых ломтей и положила на тарелку. Перед тем как сесть, она нежно и робко погладила сына по волосам и сразу же убрала руку. Олька обратила внимание, что Сержант не называет Дору ни мамой, ни матерью – никак не называет; жадно следит за всеми ее движениями, но ни о чем не спрашивает – только отвечает, когда она обращается к нему.
– Иди ко мне, Ленечка!
Дора усадила малыша к себе на колени и крепко обняла.
– Нет-нет, мне как раз очень удобно, – поспешно отвела невесткины протесты, – а тебе хорошо у бабы, Ленечка?
Жуя сало, Ленечка кивнул, а потом потянулся жирным пальчиком к черной пряди:
– А у бабушки Иры белые волосы.
– И у меня белые! – обрадовалась Дора. – Они у меня белые совсем, потому я и крашу; а так совсем белые.
– Белые, только черные? – Ленечке нужна была ясность.
Все с облегчением рассмеялись.
Олька склонилась над тарелкой. Вчера хоронили крестного. Как они могут смеяться? Ну ладно Сержант – он дядю Федю не любил, и к нему Дора приехала; пусть радуется. Но как мать может смеяться? «Принеси мне, детка, очки из кабинета». В гробу у дяди Феди очков не было, как не было и привычных мешков под глазами, без которых Олька его не помнила. И как страшно было видеть крестную, все лицо в слезах. Олька старалась не смотреть и переводила взгляд на руку с зажатым платком, который тетя Тоня все время подносила к лицу. Чуть в стороне стояла бабушка.
– …и с твоей мамой, Таинька, очень хочу встретиться. Она вас, наверно, часто навещает. Хорошо, когда в одном городе. А потом вы все к нам приедете, вместе с мамой. Вы на Украине бывали когда-нибудь?
Дора почти не ела и говорила без умолку и сразу обо всем – вернее, вперемешку. Рассказы о дочери («ты Мусю помнишь, Вовочка? – должен помнить, конечно!») перебивались обрывочным описанием собственных мытарств («только когда из военкомата письмо пришло, я узнала ваш адрес»), и беспокойный взгляд становился на мгновение неподвижным, а сама Дора вдруг замолкала и крепче прижимала к себе сонного Ленечку.
В одно из таких мгновений Олька перевела взгляд с полустершейся губной помады на руки, надеясь увидеть маникюр, но Дорины руки, грубые и изношенные, маникюра не знали. Дора погладила ее по голове, и прикосновение этой грубой, почти мужской, руки оказалось неожиданно легким.
– Какие у тебя косы длинные… Ты в каком классе учишься, Оленька?
– В седьмом.
Хорошо, что она не называет ее дурацким именем «Ляля» и не говорит «Ольга», как Сержант. Хотя лучше уж «Ольга», чем «Ляля». Как называть «бабушку Дору», она еще не придумала. «Дора-дора-помидора», давно крутившееся в голове, совсем не подходило и не годилось для этой черноволосой старухи, особенно после ее рассказа о том злосчастном вокзале двадцатилетней давности. Олька отчетливо видела ее, с дымящимся чайником и почему-то в оранжевой нейлоновой шубе – так отчетливо, словно сама стояла на перроне; какая уж тут «помидора».
Дора хлопотала, собирая тарелки и ласково препираясь с невесткой.
– Ляля сейчас помоет.
– Нет-нет, Таинька, я сама; да тут и мыть-то нечего.
– Тем более.
Последние слова были сказаны с нажимом, и Таисия коротко кивнула дочке, что означало «марш на кухню».
Олька стояла у остывшей плиты и мыла тарелки. В голом темном окне отражалась лампочка под потолком, угол кухонного шкафчика и профиль девочки-подростка в клетчатом платье. Было слышно, как стукнула дверь во двор. Она не повернула головы, но знала, что кто-то смотрит, как она сама смотрела на окна, проходя мимо. И занавески, и абажур Таисия считала мещанством и в квартиру не допускала. В комнате, правда, висела люстра, то ли забытая, то ли великодушно оставленная прежним хозяином: два матовых стеклянных плафона в форме тюльпанов на причудливо завитых латунных трубках. В детстве Олька думала, что они золотые. Поскольку люстру не назовешь абажуром (а следовательно, мещанством), ей было позволено висеть. Олька не раз замечала, что матери приятно, когда гости хвалят люстру, хотя она машет рукой и небрежно отвечает: «Остатки былой роскоши». Девочка почти не помнила, а мать охотно забыла жившего в этой квартире дворника, которого трудно было заподозрить в роскоши.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

«Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти – все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель», – так отозвалась Дина Рубина о первой книге Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой». С той поры у автора вышли еще три романа, она стала популярным писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна», как бы отметившей «толстовский отблеск» на ее прозе. И вот в полном соответствии с яснополянской традицией, Елена Катишонок предъявляет читателю книгу малой прозы – рассказов, повести и «конспекта романа», как она сама обозначила жанр «Счастливого Феликса», от которого буквально перехватывает дыхание.
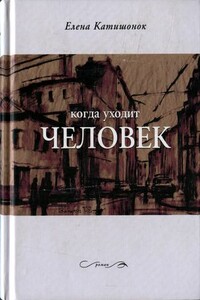
На заре 30-х годов молодой коммерсант покупает новый дом и занимает одну из квартир. В другие вселяются офицер, красавица-артистка, два врача, антиквар, русский князь-эмигрант, учитель гимназии, нотариус… У каждого свои радости и печали, свои тайны, свой голос. В это многоголосье органично вплетается голос самого дома, а судьбы людей неожиданно и странно переплетаются, когда в маленькую республику входят советские танки, а через год — фашистские. За страшный короткий год одни жильцы пополнили ряды зэков, другие должны переселиться в гетто; третьим удается спастись ценой рискованных авантюр.

Действие новой семейной саги Елены Катишонок начинается в привычном автору городе, откуда простирается в разные уголки мира. Новый Свет – новый век – и попытки героев найти своё место здесь. В семье каждый решает эту задачу, замкнутый в своём одиночестве. Один погружён в работу, другой в прошлое; эмиграция не только сплачивает, но и разобщает. Когда люди расстаются, сохраняются и бережно поддерживаются только подлинные дружбы. Ян Богорад в новой стране старается «найти себя, не потеряв себя». Он приходит в гости к новому приятелю и находит… свою судьбу.

«Поэзии Елены Катишонок свойственны удивительные сочетания. Странное соседство бытовой детали, сказочных мотивов, театрализованных образов, детского фольклора. Соединение причудливой ассоциативности и строгой архитектоники стиха, точного глазомера. И – что самое ценное – сдержанная, чуть приправленная иронией интонация и трагизм высокой лирики. Что такое поэзия, как не новый “порядок слов”, рождающийся из известного – пройденного, прочитанного и прожитого нами? Чем более ценен каждому из нас собственный жизненный и читательский опыт, тем более соблазна в этом новом “порядке” – новом дыхании стиха» (Ольга Славина)

Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, изданные смелыми издателями, вызывают интерес. А кто-то даже перечитывает их. Четыре книги – «Песня длиной в жизнь», «Хлеб-с-солью-и-пылью», «В городе Белой Вороны» и «Бочка счастья» были награждены вашим вниманием. И мне говорят: «Пиши. Пиши еще».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

«Травля» — это история о том, что цинизм и ирония — вовсе не универсальная броня. Герои романа — ровесники и современники автора. Музыканты, футболисты, журналисты, политтехнологи… Им не повезло с эпохой. Они остро ощущают убегающую молодость, может быть, поэтому их диалоги так отрывочны и закодированы, а их любовь не предполагает продолжения... «Травля — цепная реакция, которая постоянно идет в нашем обществе, какие бы годы ни были на дворе. Реакцию эту остановить невозможно: в романе есть вставной фрагмент антиутопии, которая выглядит как притча на все времена — в ней, как вы догадываетесь, тоже травят».

Этот роман – «собранье пестрых глав», где каждая глава названа строкой из Пушкина и являет собой самостоятельный рассказ об одном из героев. А героев в романе немало – одаренный музыкант послевоенного времени, «милый бабник», и невзрачная примерная школьница середины 50-х, в душе которой горят невидимые миру страсти – зависть, ревность, запретная любовь; детдомовский парень, физик-атомщик, сын репрессированного комиссара и деревенская «погорелица», свидетельница ГУЛАГа, и многие, многие другие. Частные истории разрастаются в картину российской истории XX века, но роман не историческое полотно, а скорее многоплановая семейная сага, и чем дальше развивается повествование, тем более сплетаются судьбы героев вокруг загадочной семьи Катениных, потомков «того самого Катенина», друга Пушкина.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)