Суриков - [3]
На выставках «Мира искусства» и «Бубнового валета» Волошин отыскал и отметил тех художников, в творчестве которых наиболее отчетливо воплотились тенденции нового реализма XX века и вместе с тем проявилось особенно напряженное живописное чувство, выразившееся в стремлении образно мыслить категориями пространства, света и цвета, наконец, в умении так или иначе соотнести свои произведения с достижениями новой западноевропейской, в частности, французской живописной культуры. Сочувственное внимание Волошина привлекали такие мастера, как М. Ф. Ларионов, П. П. Кончаловский, И. И. Машков, H. H. Сапунов, ученица Родена А. С. Голубкина. Некоторым из них Волошин посвятил отдельные монографические очерки, о других писал в общих обзорах выставок или в статьях, освещающих самые примечательные явления современного русского искусства.
Младшие современники великого живописца единодушно преклонились перед силой и своеобразием его таланта. Александр Бенуа назвал его одним из величайших русских художников. П. П. Кончаловский, основоположник и руководитель объединения «Бубновый валет», считал себя прямым преемником суриковскнх традиций.
Волошин сам рассказывал о том, как началась его работа над книгой о Сурикове: «Познакомился я с Василием Ивановичем Суриковым в начале 1913 года, когда И. Э. Грабарь предложил мне написать о нем монографию для издательства Кнебеля. Через общих знакомых я обратился к Василию Ивановичу с вопросом: не буду ли я ему неприятен как художественный критик и не согласится ли он дать мне материалы для своей биографии. Василий Иванович ответил, что ничего не имеет против моего подхода к искусству, и согласился рассказать мне свою жизнь. Когда мы встретились и я изложил ему предполагаемый план моей работы, он сказал: „Мне самому всегда хотелось знать о художниках то, что Вы хотите обо мне написать, и не находил таких книг. Я Вам все о себе расскажу по порядку. Сам ведь я записывать не умею. Думал, так моя жизнь и пропадет вместе со мною. А тут все-таки кое-что останется“.
Наши беседы длились в течение января месяца. Во время рассказов Василия Ивановича я тут же делал себе заметки, а. вернувшись домой, в тот же вечер восстановлял весь разговор в наивозможной полноте, стараясь передать не только смысл, но и форму выражения, особенности речи, удержать подлинные слова.
Смерть Василия Ивановича застала мою монографию еще не оконченной»[3]
Книгоиздатель И. Кнебель, выпустивший когда-то ряд книг по истории русского искусства и заказавший Волошину монографию о Сурикове, был московским негоциантом немецкого происхождения и к тому ше австрийским подданным. В августе 1914 года, в первые дни войны с Германией и Австрией, его издательство было разгромлено буйной уличной толпой одновременно с другими торговыми и промышленными предприятиями, принадлежавшими германским и австрийским подданным, и навсегда прекратило свою деятельность.
Когда в сентябре 1916 года Волошин завершил работу над монографией, ему уже негде было ее напечатать. Но собранные им материалы представляли столь несомненный и актуальный интерес для художественной общественности, что держать их под спудом было попросту невозможно.
Летом того же 1916 года, еще не дописав свою книгу, Волошин напечатал в журнале «Аполлон» записи своих бесед с Суриковым.
«[…] Я спешу опубликовать мои разговоры с ним как материалы для его биографии и для того, чтобы хоть в слабой степени запечатлеть звуки его живого голоса, — писал Волошин. — Приводя в порядок мои записи, я построил их не в последовательности наших бесед, так как Василий Иванович часто отвлекался, возвращался назад и повторял уже рассказанное, но в порядке хронологическом, чтобы дать связную картину его жизни».[4]
Записи Волошина в течение долгого времени оставались единственным источником наших знаний о Сурикове. В руках Волошина документальная точность записей искусно сочеталась с художественностью их обработки. К материалам, опубликованным в «Аполлоне», обращались как к первоисточнику все без исключения советские искусствоведы, писавшие о творчестве Сурикова, и, без сомнения, будут обращаться те, кому в дальнейшем еще предстоит коснуться этой вечной и неисчерпаемой темы.
Правда, вначале еще существовали некоторые сомнения в достоверности рассказов, записанных Волошиным. Но когда были опубликованы письма Сурикова и стали доступными для исследователей документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством великого художника, авторитет волошинских записей возрос и укрепился. В 1928 году А. М. Эфрос, в общем не очень доброжелательный к Волошину, писал: «Старое недоверие к записям Максимилиана Волошина сейчас поколеблено. Если в их торопливом красноречии мы все еще видим на первом плане автора, глядящегося в зеркало, то за его оплывшей спиной уже можно различить небольшую. подвижную фигурку Василия Ивановича. Иногда доходят обороты его речи, местами слышны даже интонации».[5]
В этом отзыве отчетливо чувствуется раздражительное предубеждение, помешавшее Эфросу отдать должное Волошину, который отнюдь не выдвигал себя на первый план в записях рассказов Сурикова, а сумел уберечь н донести до читателя своеобразие речи художника, сохранить не только стиль его мышления, но и неповторимые живые интонации. Это, впрочем, признал и Эфрос. Но предубеждение помешало ему заметить и оценить искусствоведческие достоинства работы Волошина. Материалы, собранные последним, никто не сумел использовать лучше, чем сам Волошин.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
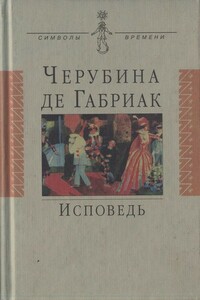
Книга знакомит читателя с жизнью и творчеством поэтессы Серебряного века Елизаветы Ивановны Дмитриевой (Васильевой) (1887–1928) больше известной, под именем Черубины де Габриак.Впервые в полном объеме представлено ее поэтическое наследие, а также переводы, пьесы. Задача книги — вернуть в русскую литературу забытую страницу.
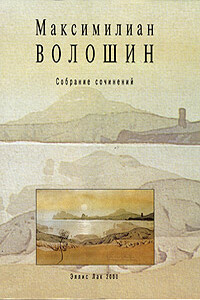
Настоящее издание – первое наиболее полное, научно откомментированное собрание сочинений Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) – поэта, литературного и художественного критика, переводчика, мыслителя-гуманиста, художника. Оно издается под эгидой Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и подготовлено ведущими волошиноведами В. П. Купченко и А. В. Лавровым.Третий том собрания сочинений М. А. Волошина включает книги критических статей, вышедших в свет при жизни автора («Лики творчества: Книга первая», «О Репине»), а также книгу «Суриков», подготовленную им к печати, но в свое время не опубликованную.http://ruslit.traumlibrary.net.
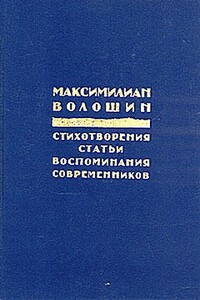
В статье «Россия распятая» М. Волошин предсказал будущую деформацию большевизма, идущего к «формам и духу старого времени». Утверждая, что социализм в России будет искать точку опоры «в диктатуре, а после в цезаризме», фактически предрек появление Сталина на исторической сцене новой России.Впервые в СССР опубликована в журнале «Юность». 1990. № 10.

«Когда Бальмонту было двенадцать лет, на его письменный стол пришла белая мышка.Он протянул к ней руку. Она без страха взбежала на ладонь, села на задние лапки перед его лицом и запела тоненьким мышиным голосом.Так много дней она приходила к нему, когда он занимался, и бегала по столу; но однажды, в задумчивости опершись локтем, он раздавил ее и долго не мог утешиться…».

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.