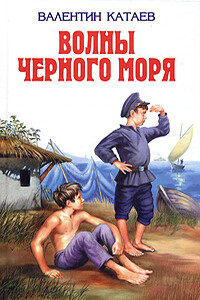Сухой лиман - [3]
Дежурный вахтер в проходной будке – солдат-инвалид – не только их не остановил, но подтянулся «смирно» на своей деревянной ноге, откозырнул и выпустил их на бульвар.
– А тебя здесь, Миша, вижу, уважают, – сказал Александр Николаевич.
– А как же! Солдат из нашей дивизии. Вместе воевали. Потерял ногу под Керчью. Я ему ее там же в полевом госпитале под бомбежкой с воздуха и отрезал.
…Они прошли по бульвару вдоль длинной каменной оштукатуренной госпитальной стены, уже много раз крашенной водянистой розовой краской, сильно потертой, исцарапанной разными инициалами и непристойными надписями, затертыми и закрашенными блюстителями порядка.
Александр Николаевич выглядел еще молодцом в своей заграничной замшевой куртке на «молнии», хотя ему уже перевалило за пятьдесят, а Михаил Никанорович рядом с ним казался маленьким, хотя на вид и бодрым старичком в больничном халате.
Они оба были отпрысками некогда большой семьи вятского соборного протоиерея. У каждого из них имелась своя семья, взрослые дети и даже маленькие внуки от разных жен, с которыми их сыновья разводились. Были свои семейные сложности, запутанные отношения, но все это как бы не шло в счет. Они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга, так сказать, последними из рода Синайских. Они встречались редко и не переписывались. В семействе Синайских по древней привычке как-то не было принято переписываться. Одна только сестра Михаила Никаноровича Лизавета Никаноровна аккуратно писала всем родственникам, жившим в разных городах, и держала их постоянно в курсе семейных дел. Но ни ее, ни других родственников, кроме двоюродных братьев, не было уже на свете.
С моря сквозь умирающие, сады бульвара потягивало грустным ветерком.
– А помнишь, Саша, наши детские катавасии? Заметь себе, что вместе с христианством слово «катавасия» попало к нам из Греции и обозначает в переводе на русский язык не что иное, как снисхождение или нечто в этом роде. Слово поповское. Значит, мы с тобой с раннего детства, так сказать, с младых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана.
– Я этого не подозревал.
– Мы многого не подозреваем, а между тем наш общий с тобой дедушка был священник, и наша общая бабушка была попадья, и не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства.
…Двоюродные братья представили своего дедушку, которого видели только на маленьком провинциальном дагерротипе, – бородатого, чем-то напоминающего Салтыкова-Щедрина, но только не в сюртуке, а в обширной рясе с широкими рукавами, с наперсным крестом, с грозными глазами, сидящего рядом со своей маленькой попадьей в тяжелом шелковом платье и кружевной наколке на голове, а позади них стояли три сына-семинариста, из которых старший был уже слегка бородат.
Протоиерей вятского кафедрального собора отец Никанор Синайский скончался в 1871 году, едва дожив до пятидесяти лет, от какой-то странной болезни, поразившей коленную чашечку правой ноги. Была ли это простуда, или костный туберкулез, или еще что-нибудь тогда еще неизвестное в медицине, никто не знал. Тогдашние вятские лекари лечили воспалившуюся коленную чашечку прижиганием добела раскаленным железом, да так и не вылечили.
После смерти протоиерея остались вдова-попадья и трое сыновей. Покойный желал видеть их священниками, имеющими власть претворять хлеб в тело Христово и вино в его кровь. Такова была древняя семейная традиция рода Синайских. Однако все трое сыновей избрали деятельность не духовную, но светскую. Православие на Руси в то время уже клонилось к упадку.
Правда, старший из сыновей, Никанор Никанорович, после окончания семинарии поехал в Москву, в Троице-Сергиеву лавру, где окончил духовную академию, но сана не принял, в монахи не постригся, церковную карьеру себе не сделал, в архиереи не вышел, а отправился на жительство в южнорусский город Одессу, где стал преподавателем, а вскоре и инспектором классов в семинарии – еще старой семинарии, так как потом было выстроено здание новой семинарии.
Его примеру последовали братья. Окончив вятскую семинарию, они один за другим – средний брат Николай и младший Яков – также переселились в Одессу, взяв с собой мать.
Таким образом, вятское гнездо Синайских опустело навсегда.
Средний Синайский окончил в Одессе Новороссийский университет по историческому отделению филологического факультета с серебряной медалью, но ученую карьеру не избрал, а стал простым педагогом, преподавателем истории и географии в женском епархиальном училище, а также в школе десятников при императорском техническом обществе, обучая рабочих-строителей русскому языку, в чем отчасти видел свой гражданский долг просвещать простой народ.
Младший сын покойного протоиерея Яков Никанорович также окончил Новороссийский университет, но физико-математический факультет и с золотой медалью, что было величайшей редкостью, так как физико-математический факультет считался самым трудным. Золотая медаль сулила младшему Синайскому блестящую будущность, быть может, даже великого русского ученого вроде Менделеева…
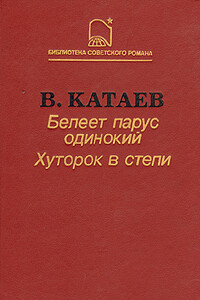
В книгу выдающегося советского писателя Валентина Катаева вошли хорошо известные читателю произведения «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи», с романтической яркостью повествующие о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.
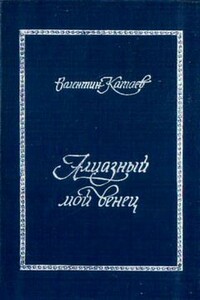
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». "Алмазный мой венец" – роман-загадка, именуемый поклонниками мемуаров Катаева "Алмазный мой кроссворд", вызвал ожесточенные споры с момента первой публикации. Споры не утихают до сих пор.
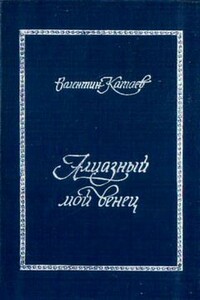
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». По словам И. Андроникова, «искусство Катаева… – это искусство нового воспоминания, когда писатель не воспроизводит событие, как запомнил его тогда, а как бы заново видит, заново лепит его… Катаев выбрал и расставил предметы, чуть сдвинул соотношения, кинул на события животрепещущий свет поэзии…»В этих своеобразных "повестях памяти", отмеченных новаторством письма, Валентин Катаев с предельной откровенностью рассказал о своем времени, собственной душевной жизни, обо всем прожитом и пережитом.
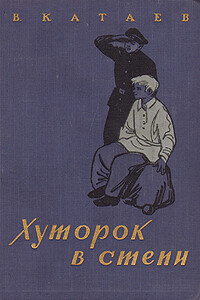
Роман «Хуторок в степи» повествует с романтической яркостью о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.
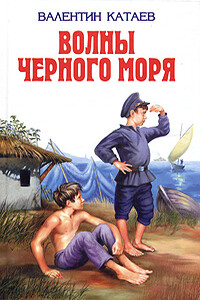
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!Перед вами роман «Зимний ветер» — новое произведение известного советского писателя Валентина Петровича Катаева. Этим романом писатель завершил свой многолетний труд — эпопею «Волны Черного моря», в которую входят «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» и «За власть Советов» («Катакомбы») — книги, завоевавшие искреннюю любовь и подлинное признание у широких слоев читателей — юных и взрослых.В этом романе вы встретитесь со своими давними знакомыми — мальчиками Петей Бачеем и Гавриком Черноиваненко, теперь уже выросшими и вступившими в пору зрелости, матросом-потемкинцем Родионом Жуковым, учителем Василием Петровичем — отцом Пети, славными бойцами революции — большевиками-черноморцами.Время, описанное в романе, полно напряженных, подлинно драматических событий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.