Стук, стук, стук... - [2]
Муж. Но ты почему-то грустная?
Жена. Я вижу, как ты смотришь на муку. Но ведь я нечаянно. Неужели ты не можешь забыть? Попытайся забыть. Вот уже час я слышу, как ты ходишь из угла в угол и что-то бормочешь, будто ты не здесь, а где-то еще. Прямо страшно становится.
Муж. Можно провалиться в прошлое, как в яму. Тогда все сливается — и настоящее, и прошлое, и будущее — и ты не знаешь, что это — прошлое в настоящем или настоящее в будущем? Все едино. Я сижу в камере и жду, когда раздастся стук. (Стучит в дверь костяшками пальцев: два раза, пять раз, четыре, один.)
Жена. У тебя ободраны суставы пальцев. Может, положить на них мазь?
Муж. Да, пожалуйста.
Открывают и снова закрывают шкаф.
Правда, хорошая мазь. Знаешь, что означал тот стук? Муку. Это значило, что Юлиусу удалось добыть муку. Пол-ложки. Но для того, чтобы принять причастие, надо было еще о многом позаботиться. Надо было тайком доставить в камеру священника вино. Мы достали его в санчасти, на бутылке была этикетка «Микстура от кашля». Нужен был утюг, и надо было его накалить. При помощи горячего утюга Юлиус приготовил облатки. Они были не очень белыми, скорее коричневыми, как поверхность утюга, и крохотными, как грошики. Из полуложки муки их получилось двадцать. Вот тогда священник смог отслужить в своей камере мессу и освятить святые дары, и я думаю о тех мессах, на которых никогда не присутствовал, как о чем-то очень мне дорогом.
Жена. А те, на которых ты можешь присутствовать — здесь, теперь, завтра, — должны быть тебе еще дороже. Та жизнь была для тебя чужой, ненастоящей, а наша жизнь — настоящая. У нас есть специальные пекарни, выпекающие облатки, и никому не надо умирать за пол-ложки муки.
Муж. Маленькие облатки, которые ночью освятил священник, были завернуты в конвертики из газетной бумаги, и утром на тюремной прогулке их передавали из рук в руки, как нелегальную записку. Первую я получил из рук убийцы, который шел впереди меня.
Жена. Почему ты вечно думаешь о всех этих ужасах?
Муж. Потому что не считаю это ужасом, да и тогда не считал. Казалось, что так и должно быть. (Делает несколько шагов и открывает окно.) Там внизу, у этих самых ворот, стоял поляк, которому я дал хлеб, — помнишь? Это правда, что я дал ему хлеб?
Жена. Да, ты дал ему хлеб. Я будто его вижу: маленький, светловолосый, совсем еще ребенок. Был вечер, фонарей не зажигали, потому что шла война. Он ничего не сказал, только молча протянул руки к нашему кухонному окну, и ты вышел и дал ему хлеба и сигареты. Не забуду, как он здесь стоял и молча протягивал руки.
Муж. И я даже гордился тем, что был осужден за это, а не за убийство и не за грабеж. Но крошечный конвертик из газетной бумаги мне дал убийца.
Жена. Почему он это сделал?
Муж. Не знаю. Но сделал. Он не верил ни в Бога, ни в церковь, ни в священника, ни в святые дары. Он только передал мне тайком конвертик, где лежала освященная облатка.
Жена. А он знал, что тебе дает?
Муж. Он знал, что мы в это верили, и знал, что должен передать это мне и никому другому, поэтому никому другому он этого и не отдал.
Жена. Он действительно убил человека?
Муж. Он признался в этом на суде. Когда его вели на казнь, мы и ему барабанили на прощание.
Удары кулаками о железные двери. Шум усиливается и переходит в грохот.
Последний привет. Я знаю лишь его имя — Вальтер, у него были маленькие, нежные руки. Потом уже другой шел передо мной на прогулке по кругу. Я получил следующий конвертик из рук взломщика. Он был тучный, с тяжелыми лапищами. Его звали — Курт. Он — единственный, кто вышел на свободу, единственный, кого я встречаю.
Жена. Что он сейчас делает?
Муж (смеется). Я его ни разу об этом не спрашивал. Когда мы встречаемся, мы останавливаемся друг против друга, смеемся и не произносим ни слова, а когда мы расходимся — все, что было, предстает предо мной как видение, а то, что есть, кажется таким же призрачным. Белая облатка, которую завтра положит мне в рот священник, ничем, по существу, не отличается от той, которую я получил из маленьких, нежных рук убийцы Вальтера, или той, что я взял из лапищ громилы Курта. Когда я встречаю Курта, я всегда смотрю на его руки.
Жена. Я часто просыпаюсь ночью и слышу, как ты во сне стучишь в стену.
Муж. Ритм, навязанный Юлиусом и священником, засел во мне. Часто я проклинал их обоих, так я уставал. Они, кажется, никогда не уставали. Помню, как я был напуган, когда однажды утром услышал только одно короткое слово и передал его дальше.
Короткие, длинные и снова короткие удары. Стук в стену.
Жена. Что это значит?
Муж (медленно). Верую.
Жена. А почему ты так испугался?
Муж. Сам не знаю почему. Но испугался. Это было так просто, ясно и так убедительно, как ничто. Ты ведь знаешь, Юлиуса я никогда не видел. Он работал на кухне, доставал муку, делал для нас облатки задолго до того, как они понадобились ему самому. Мы так никогда и не узнаем, кто его предал. Его вдруг обыскали, и когда нас вывели на утреннюю прогулку, облатки, которые у него нашли, лежали на земле — желтовато-белые кружочки, крохотные, как грошики, растоптанные, опять превращенные почти в ту же муку. На этот раз одна из облаток должна была достаться Юлиусу, но так ему и не досталась, а мы лишились их на полгода. Пока не сняли начальника тюрьмы. Потом возобновились службы в тюремной церкви, а прежнего начальника наказали за то, что он нам их запрещал.

Послевоенная Германия, приходящая в себя после поражения во второй мировой войне. Еще жива память о временах, когда один доносил на другого, когда во имя победы шли на разрушение и смерть. В годы войны сын был военным сапером, при отступлении он взорвал монастырь, построенный его отцом-архитектором. Сейчас уже его сын занимается востановлением разрушенного.Казалось бы простая история от Генриха Белля, вписанная в привычный ему пейзаж Германии середины прошлого века. Но за простой историей возникают человеческие жизни, в которых дети ревнуют достижениям отцов, причины происходящего оказываются в прошлом, а палач и жертва заказывают пиво в станционном буфете.
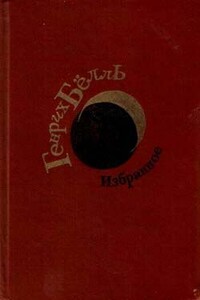
Бёлль был убежден, что ответственность за преступления нацизма и за военную катастрофу, постигшую страну, лежит не только нз тех, кого судили в Нюрнберге, но и на миллионах немцев, которые шли за нацистами или им повиновались. Именно этот мотив коллективной вины и ответственности определяет структуру романа «Где ты был, Адам?». В нем нет композиционной стройности, слаженности, которой отмечены лучшие крупные вещи Бёлля,– туг скорее серия разрозненных военных сцен. Но в сюжетной разбросанности романа есть и свой смысл, возможно, и свой умысел.

В романе "Групповой портрет с дамой" Г. Белль верен себе: главная героиня его романа – человек, внутренне протестующий, осознающий свой неприменимый разлад с окружающей действительностью военной и послевоенной Западной Германии. И хотя вся жизнь Лени, и в первую очередь любовь ее и Бориса Котловского – русского военнопленного, – вызов окружающим, героиня далека от сознательного социального протеста, от последовательной борьбы.

«Глазами клоуна» — один из самых известных романов Генриха Бёлля. Грустная и светлая книга — история одаренного, тонко чувствующего человека, который волею судеб оказался в одиночестве и заново пытается переосмыслить свою жизнь.Впервые на русском языке роман в классическом переводе Л. Б. Черной печатается без сокращений.

Одно из самых сильных, художественно завершенных произведений Бёлля – роман «Дом без хозяина» – строится на основе антитезы богатства и бедности. Главные герои здесь – дети. Дружба двух школьников, родившихся на исходе войны, растущих без отцов, помогает романисту необычайно рельефно представить социальные контрасты. Обоих мальчиков Бёлль наделяет чуткой душой, рано пробудившимся сознанием. Один из них, Генрих Брилах, познает унижения бедности на личном опыте, стыдится и страдает за мать, которая слывет «безнравственной».

Генрих Бёлль (1917–1985) — знаменитый немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1972).Первое издание в России одиннадцати ранних произведений всемирно известного немецкого писателя. В этот сборник вошли его ранние рассказы, которые прежде не издавались на русском языке. Автор рассказывает о бессмысленности войны, жизненных тяготах и душевном надломе людей, вернувшихся с фронта.Бёлль никуда не зовет, ничего не проповедует. Он только спрашивает, только ищет. Но именно в том, как он ищет и спрашивает, постоянный источник его творческого обаяния (Лев Копелев).