Стражи Кремля. От охранки до 9-го управления КГБ - [3]
Дальнейшее ухудшение в постановке охраны правителя совпало — а возможно, и явилось причиной этого — с началом более чем пятисотлетнего упадка России, анархии бояр и князьков и ужасного ига татарских завоевателей. Вместо профессиональных телохранителей мелкие князьки и случавшиеся изредка достойные правители располагали в тот мрачный период всего лишь ратниками — в сущности, простыми солдатами, которые грабили и убивали беззащитных горожан и обычно не оказывали должного сопротивления, когда Сталкивались с серьезным противником.
Стрельцы и опричники
Обе эти организации явились плодом задумок Ивана Грозного (годы правления — 1533–1584).
Этот царь стал первым русским правителем после князей Киевской Руси, который осознал необходимость профессиональной организации охраны. Тому способствовали нападки на него со стороны бояр до восшествия на трон и стремление защититься от них во время царствования.
Первый отряд стрельцов насчитывал примерно тысячу человек. В основном это были пехотинцы, первоначально мастера по стрельбе из лука — из элитных войск того периода, — позже они получили огнестрельное оружие. Но у некоторых из них оставались пики, секиры и мечи. Первое такое формирование в основном охраняло Московский Кремль и его хозяина. За время своей примерно стотридцатилетней истории существования у стрельцов сменилось много командиров, но вначале их единственным и настоящим командующим был сам Иван Грозный.
Стрельцы принимали участие во всех кошмарных акциях своего сумасбродного правителя — включая разорение Новгорода, — но они не были инициаторами всякого рода ужасов и жестокостей. Для таких дел существовали опричники.
Опричнина просуществовала всего семь лет (1565–1572), но она принесла России столько бедствий, что осталась в народной памяти навсегда. Сталин высоко ставил опричников, которых критиковал вместе с их хозяином только за то, что они не сумели ликвидировать еще большее число бояр и священников.
В отличие от стрельцов, опричники носили бросавшуюся в глаза униформу. Они относились к конной гвардии, одевались во все черное, включая накидку. Черной была и вся сбруя. На седлах красовались изображения метлы и волчьей пасти, которые подчеркивали главное назначение опричников — выслеживать и выметать «крамольников», то есть всех тех, кто не потрафил Ивану.
Тщательно отобранный корпус опричников насчитывал шесть тысяч человек, а по некоторым данным, достигал десяти тысяч. Это было разношерстное сборище беспринципных и циничных представителей княжеских и боярских семей, чужеземных авантюристов, воров, странствующих, не совсем нормальных проповедников. Из особо приближенных к Ивану подонков можно выделить Алексея Басманова, Малюту Скуратова-Вельского и князя Афанасия Вяземского. Сам царь писал о том, что идею опричнины подал ему некий Иван Пересветов, но нет указаний на то, что этот человек играл какую-нибудь роль в деятельности придуманной им организации.
В период их расцвета опричникам принадлежала половина царства и значительная часть Москвы. Впрочем, они контролировали и остальную часть страны. Их база располагалась в Александровской слободе, монастыре, на деле представлявшем собой крепость с водяными рвами, каменными стенами и темницами, расположенном в семидесяти милях к северо-востоку от столицы. У них была также ставка в их московском секторе.
Неудивительно, что Сталин восхищался Иваном Грозным и его опричниками. Вероятно, он завидовал им, а также, в меньшей степени, ленинской ЧК. Ведь чтобы отделаться от своих врагов — реальных и надуманных, — Сталину приходилось создавать видимость законности и проводить «судебные процессы».
Подобной щепетильностью Иван IV и его банда головорезов себя не затрудняли. Опричники получили приказ карать с крайней жестокостью. Они пользовались безусловным правом убивать, грабить, избивать, насиловать, похищать и сжигать имущество любого и каждого, кого они признавали врагами царя. Задолго до своих последователей из царской «охранки» и советских НКВД и КГБ они использовали сексотов и провокаторов и подстраивали ловушки для своих жертв, подбрасывая им фальшивые документы.
В результате, когда опричники врывались в города и селения, граждане разбегались, улицы пустели, а пойманные оговаривали своих родственников, друзей или соседей в надежде спасти собственные жизни.
Главный преступник Иван находился обычно либо в монастыре Александровская слобода, либо в своей московской резиденции. Он делил время между пытками и расправой над заключенными, наблюдая с напускным неодобрением изнасилования схваченных женщин, часто из боярских семей, пируя с опричниками, облаченными в монастырские одежды; либо постясь и молясь за свои жертвы.
Вопреки напускной религиозности, Иван Грозный являлся для церкви настоящим антихристом. Он с особенной силой обрушился именно на эту часть российской элиты, заставив опричников проводить массовое истребление священников, включая митрополитов и архиепископов. Его заклятым врагом стал московский митрополит Филипп, который открыто выступал против опричников и был, похоже, нетрусливым человеком. В 1569 году Филипп зашел так далеко, что публично отчитал Ивана и отказался благословить его в Успенском соборе. За это опричники собрали «улики» и организовали «суд» над священником — инсценировку для москвичей, горячо любивших митрополита. Проделав это, шайка во главе с Басмановым ворвалась в собор, схватила Филиппа у алтаря, сорвала с него одежду и облачила в одеяние простого монаха. По некоторым свидетельствам, низложенного митрополита удавили в монастыре в Твери. Другие считают, что его подвесили на крюке в подвалах монастыря Александровская слобода. Но все версии сходятся на том, что палачом стал Малюта Скуратов, самый кровавый опричник.
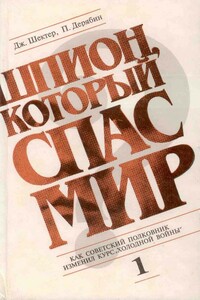
Самые захватывающие истории о шпионах — это те, которые происходят на самом деле.Факт предательства советского полковника Олега Пеньковского не является выдумкой нашей или иностранной разведки.О нем писали и говорили в начале шестидесятых годов, но многие стороны этого случая долгое время были скрыты в документах ЦРУ с грифом «совершенно секретно». Сегодня их предают гласности, и читатель может самостоятельно сделать вывод, был ли Пеньковский тем человеком, который спас мир от ядерной катастрофы.
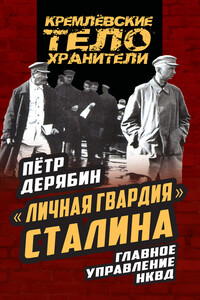
Петр Дерябин более десяти лет состоял на службе в НКВД-МГБ, в правительственной охране. Это было в конце сталинской эпохи, когда система безопасности высшего руководства СССР достигла совершенства, до сих пор не превзойденного нигде в мире. В своей книге, опубликованной на Западе, куда Дерябин бежал после смерти Сталина, он подробно описал эту систему, чтобы, по его словам, «покончить со всевозможными небылицами о ней».Автор показывает, как была образована и чем занималась «личная гвардия» Сталина — Главное управление охраны (ГУО) НКВД-МГБ.
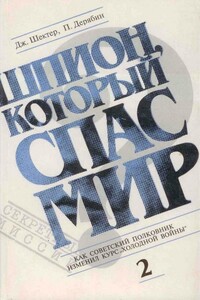
Пятая книга из серии «Секретные миссии» относится к жанру документальной прозы. В ней подробно рассказывается о деле Олега Пеньковского, полковника ГРУ, о мотивах, побудивших его пойти на сотрудничество с западными спецслужбами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.