Страна Гонгури - [27]
VII
Гелий замолчал, но вызванные им образы продолжали заполнять сознание обоих пленников. Черные от грязи стены одиночки превратились в черный бархат дворца Риэля, и Гонгури все еще плакала над его трупом. Везилет развивал цикл идей, навеянных смертью, светлую веру Генэри, почти знания, покоившегося на исследованиях высочайших форм энергии: Сознания, Мысли, Я. Каждая жизнь борется со Смертью, дух человека возносит эту борьбу до крайних пределов и, достигая высшего возможного в нем совершенства, воистину создает и становится частью этого Несказанного Центра, что на бедном земном языке может именоваться только Божеством. Поэтому насильно разрушающий жизнь не находит желанного Света, а погружается в забвение нового существования, повторяя его борьбу, страдания, страсти.
Гелий сидел откинувшись к полосе лунного сияния. Наконец он глубоко вздохнул, как будто все еще не освободился от гипноза и сказал, поднимаясь:
— Чудовищно!
Он взглянул кругом на камень и железо и продолжал.
— Чудовищно: я прожил целую жизнь в эту ночь! Что же это было, доктор? Что это, сон или жизнь? Где кончается жизнь и начинается сон?..
В ответ снова наступило молчание. Врач был потрясен случившимся. Этот быстрый рассказ, полный самых невероятных представлений, казавшихся такими возможными в спокойной глубине мысли Гелия, еще полнее раскрыл пред ним его любимую фантастическую душу. В других условиях она могла бы расцвесть новыми волшебными огнями творчества, а здесь всем этим огромным образам грозила гибель. Его тревога возросла до бреда. Он едва сдерживался.
— Да, — заговорил он наконец, докуривая последний табак, — конечно, это сон, потому что все это — твоя душа, Гелий. Душа, которая все время жила в грезах и все время соприкасалась с чудовищным миром. Едва она сосредоточивалась на видениях лучезарной жизни Страны Гонгури, как вдруг ее окружал хаос снегов и дебрей Паона, Санона, Саян. Человек высшей расы в шалаше среди дикарей и вьюги — это олицетворение нашей судьбы. Лишь только тебе удавалось остановиться над творческой работой, в Лоэ-Лэле или в Сан-Франциско, как вдруг внешняя сила снова низвергала тебя с высот мысли в пропасть жестоких войн и нечеловеческих походов. Все это ты, во всем твоем рассказе я вижу только тебя. И т. к. ты спал под влиянием внушения, то я невольно влиял на тебя, мое бормотанье вызывало в тебе мои мысли; так, ты дословно повторил слова, произнесенные мною: «Разве есть понявший душу?».
— Не может быть! — прошептал Гелий.
— Нет, это правда.
Гелий взял его за руку.
— Митч, — сказал он, — усыпи меня еще раз, и прикажи запомнить все, все. О, как живо это впечатление реальности, эти горе, любовь и радость, это желание сделать какое-то маленькое усилие, пролететь ничтожное пространство и увидеть пред собой Гонгури, или ждать: она придет и пропадут сомнения, исчезнет боль. Митч, я не могу, я хочу знать!
— Да, мой милый друг, только не сейчас. Мы выйдем на волю и если победят наши, то… а если нет, мы вернемся на берег Тихого океана; я буду добывать средства практикой, а ты будешь воплощать свои грезы.
— Пустые грезы, Митч! Нет, не надо грезить. Вокруг нас мчится победоносная жизнь. Пальмы качают листьями на коралловых рифах, теплые волны шелестят галькой, моя девочка потягивается от наслаждения, когда ее распеленают, студенты устраивают прогулки за город и у каждого из них есть своя лучшая из всех девушек. А Гелий-Риэль сидит в клетке и у него нет сотой доли той силы, чтобы ее разрушить!.. Нет, Митч, довольно. Я готов. И я не боюсь смерти. Один раз я уже умирал молодым.
Гелий осторожно подошел к окну. Поздняя луна всплыла из-за соседнего корпуса, как будто вздрогнула, взглянув в его глаза, и потом медленно поплыла к горизонту, побледнела и задумалась, как лицо Лонуола.
Он вернулся и лег на нары. Врач по-прежнему неподвижно сидел напротив, глядя в пространство. Через некоторое время Гелий невольно погрузился в забвение. И ему снился громадный глаз, смотревший на него из непредставимых бездн. Он проснулся с безумно бьющимся сердцем. Прямо в его лицо, как сверхъестественный глаз, смотрело желтое солнце. Комната была полна людьми. Впереди стоял молодой чешский офицер, белобрысый, розовый и свежий. Около самых дверей нерешительно мялся седой, бритый, жирный джентльмен в круглых очках с черепаховой оправой, одетый в однотонное хаки. В нем без труда можно было узнать современную разновидность миссионера и филантропа. Комендант скомандовал встать. Никто не шевельнулся. Чех скверно выругался.
— Это большевики? — вполголоса спросил американец у своего переводчика и вдруг получил быстрый насмешливый ответ на родном языке от грязного молодого арестанта, продолжавшего лежать на нарах:
— Да, они самые, Sir, «Made in Russia».
Последовал стереотипный удивленный вопрос:
— Где вы учились по-английски?
Гелий приподнялся. Его лицо потемнело.
— В гаванях, в кабаках, на море, мистер, всюду, от наших братьев, которые когда-нибудь свернут шею.
Гелий внезапно замолчал, взглянул на врача. Он сидел на прежнем месте, по-видимому, он не двигался всю ночь и, ухватившись руками за доски нар, напряженно всматривался в лицо американца.

Во время гражданской войны в тюремной камере оказываются старый врач и юноша, приговоренный к расстрелу. Врач погружает юношу в гипнотический сон, и за несколько часов сна тот проживает еще одну жизнь в удивительной Стране Гонгури, существующей в далеком будущем.
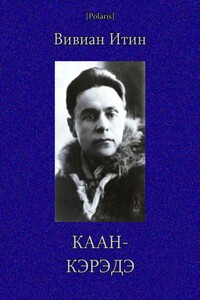
В третий том избранных произведений видного сибирского прозаика, поэта и одного из зачинателей советской научной фантастики В. Итина (1894–1938) вошла повесть (или, по авторскому определению, «поэма») об авиаторах «Каан-Кэрэдэ», авиационно-приключенческий рассказ «Люди», воспоминания об Итине поэта Л. Мартынова, биографический очерк дочери писателя Л. Итиной и другие материалы.
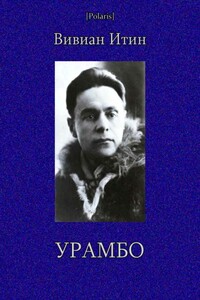
Во второй том избранных произведений видного сибирского прозаика и одного из зачинателей советской научной фантастики В. Итина (1894–1938) вошла антивоенная фантасмагория «Урамбо», фантастическая пьеса «Власть» и избранные стихотворения.

Раздражение группы нейронов, названных «Узлом К», приводит к тому, что силы организма удесятеряются. Но почему же препараты, снимающие раздражение с «Узла К», не действуют на буйнопомешанных? Сотрудники исследовательской лаборатории не могут дать на этот вопрос никакого ответа, и только у Виктора Николаевича есть интересная гипотеза.

Большой Совет планеты Артума обсуждает вопрос об экспедиции на Землю. С одной стороны, на ней имеются явные признаки цивилизации, а с другой — по таким признакам нельзя судить о степени развития общества. Чтобы установить истину, на Землю решили послать двух разведчиков-детективов.
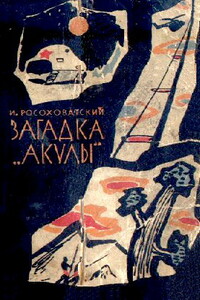
С батискафом случилась авария, и он упал на дно океана. Внутри аппарата находится один человек — Володя Уральцев. У него есть всё: электричество, пища, воздух — нет только связи. И в ожидании спасения он боится одного: что сойдет с ума раньше, чем его найдут спасатели.

На неисследованной планете происходит контакт разведчики с Земли с разумными обитателями планеты, чья концепция жизни является совершенно отличной от земной.

Биолог, медик, поэт из XIX столетия, предсказавший синтез клетки и восстановление личности, попал в XXI век. Его тело воссоздали по клеткам организма, а структуру мозга, т. е. основную специфику личности — по его делам, трудам, списку проведённых опытов и сделанным из них выводам.
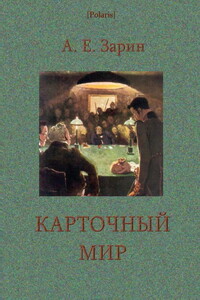
Фантастическая история о том, как переодетый черт посетил игорный дом в Петербурге, а также о невероятной удаче бедного художника Виталина.Повесть «Карточный мир» принадлежит перу А. Зарина (1862-1929) — известного в свое время прозаика и журналиста, автора многочисленных бытовых, исторических и детективных романов.
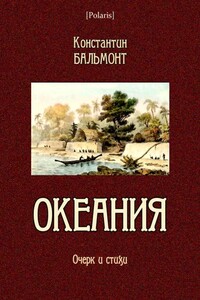
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».

Четверо ученых, цвет европейской науки, отправляются в смелую экспедицию… Их путь лежит в глубь мрачных болот Бельгийского Конго, в неизведанный край, где были найдены живые образцы давно вымерших повсюду на Земле растений и моллюсков. Но экспедицию ждет трагический финал. На поиски пропавших ученых устремляется молодой путешественник и авантюрист Леон Беран. С какими неслыханными приключениями столкнется он в неведомых дебрях Африки?Захватывающий роман Р. Т. де Баржи достойно продолжает традиции «Затерянного мира» А. Конан Дойля.
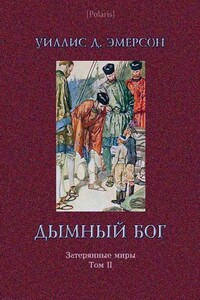
Впервые на русском языке — одно из самых знаменитых фантастических произведений на тему «полой Земли» и тайн ледяной Арктики, «Дымный Бог» американского писателя, предпринимателя и афериста Уиллиса Эмерсона.Судьба повести сложилась неожиданно: фантазия Эмерсона была поднята на щит современными искателями Агартхи и подземных баз НЛО…Книга «Дымный Бог» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» — старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.