Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей - [76]
Мама поощряла мое чтение, покупая мне много книг. Я думаю, что она так меня воспитывала.
В нашей с Марией Федоровной комнате, на стене справа от окна, висела широкая, во весь простенок, полка, полок-то, собственно, в ней было четыре, а на них стояли, а на стоявших лежали мои книги. Я брала оттуда книгу в соответствии со вкусом и побуждениями дня, хотелось ли мне читать о животных или о людях, о природе, об истории, о путешествиях, науках, сказки или еще что-нибудь.
Истинное чтение бескорыстно и не умаляет свободу читающего. Мне было далеко до такого чтения: уж если кто подчинялся тому, что засело в воображении, так это была я.
Мария Федоровна и мама не мешали моим увлечениям. Впрочем, я стала их скрывать — не увлечения, а серьезность их, то, что вызывало напряжение, дрожь, срыв голоса, когда мне доводилось о них говорить. К тому же они стали менее случайными, происходил не зависящий от моей воли отбор, как будто некто, руководивший мною, пробуя меня то в одном, то в другом, сужал поле опыта. Когда зимой перед Абрамцевом я погрузилась в античность, мама тут же дала мне Шекспира: «И ты, Брут!» Кстати, мама умела одной фразой, а то и просто интонацией поправить меня. «Да ничего, кроме воли, оно не выражает», — сказала она вполголоса, когда я ей показала восхищавшее меня, все в железных складках — меня ведь всегда привлекали люди, непохожие на меня, — лицо египетского фараона Рамзеса II или IV, если меня не подводит память.
Мама как-то упрекнула меня за то, что я все читаю и перечитываю детские книги, а она к двенадцати годам прочитала Тургенева. Если бы этот упрек сделала мне не мама, а кто-нибудь другой, я была бы совсем к нему нечувствительна. Я и в самом деле предпочитала детские книги, потому что классики, то, что я из них прочла, например «Каштанка», или «Домби и сын», или «Муму», расходились с моим оптимизмом, с верой в справедливое устройство мира. Но, несмотря на отсутствие врожденного хорошего вкуса и глупые увлечения, выбор мой был неплох (пошлость вместе с влиянием чужих вкусов пришли позже), и я от него не отрекаюсь: Жюль Верн и всем предпочитаемый Э. Сетон-Томпсон, этот Толстой литературы о животных (оба не писали, впрочем, специально для детей).
В годы перед Абрамцевом я исповедовала сугубый рационализм. В жизни он доводил меня до чудачеств, а от книг я требовала правды, но не появление джиннов из бутылок меня шокировало, а пренебрежение физиологией, требованиями тела. Поэтому «Ташкент — город хлебный» Неверова[94], где проблема власти естества не только не обойдена, но оказывается в некоторый момент первостепенной для героя, казался мне вершиной реализма. Но он не стал моей любимой книгой.
Классиков я полюбила через два года после смерти мамы. Как-то, взяв с собой том Тургенева и том Чехова, я на нашей тогдашней даче, в пристройке с низкими комнатушками без печки, почти без мебели, с окошками, выходившими на огороды с будкой-уборной, принялась читать «Дворянское гнездо». Я потом сравнивала это открытие и этот переворот с тем, что я прочитала в книге о Елене Келлер[95], одной из последних книг, которые мне купила мама. Я это место перечитывала множество раз: однажды слепая, глухая и немая девочка держала руку под льющейся водой, а ее учительница, уже отчаявшаяся научить ее единственно возможному для нее языку, писала пальцем на ладони другой ее руки слово «вода», и внезапно девочка поняла связь вещи и ее обозначения, все получило название, и мир переменился для нее.
Сравнение не совсем точное, но вот что забавно: я впилась в «Дворянское гнездо», и мне уже становилось неинтересно его перечитывать, потому что, читая одну фразу, я знала, что в следующей, однако я никак не могла решиться начать другой роман, «Дым», мне казалось, что он не может сравниться с тем, что я читаю. Но было не так. Потом я очень долго не могла перейти к пьесам Чехова, уж они-то, думала я, должны быть совсем ерундой, да еще читать «по ролям». Так нет же: «Чайка» совсем свела меня с ума, особенно тем, что самое важное было выражено там как-то рядом со словами. Я не понимала, что не в Тургеневе и не в Чехове дело — на их месте могли быть другие, равные им талантом, а в том, что, на мое счастье (не всем так везет), у меня снялась одна из многих оболочек, мешающих видеть.
Я чувствовала, что книги тянут меня в разные стороны: доверившись одной, надо было отречься от другой. Невозможно было примирить город и деревню, революционность и сострадание, прогресс приводил к гибели природы, любопытство к жестокости, любовь к красоте, таланту и блеску была несовместима с идеей равенства. Где мне было знать, что не только мне не дано справиться, сладить с этими противоречиями и что чувствует себя обремененным виной человек, который, не будучи в состоянии жить без того, что только цивилизация может ему дать, не может не видеть платы за это: Христос мог проповедовать, ничего другого не делая, только благодаря тому, что какой-то бедняга-раб, может быть ослепленный, чтобы не убежал, вертел, привязанный, мельничное колесо.
Редкий подарок судьбы — оказаться перед шедевром, ничего о нем не зная заранее. Но, наверно, еще лучше — наслаждаться шедевром, не зная, что он шедевр. Это может быть сравнимо для меня только с блаженством, испытанным мною когда-то на железнодорожном откосе, заросшем луговыми растениями в цвету. Со мной это случилось два раза: когда читала в первый раз «Детские годы Багрова-внука» и когда в первый раз смотрела балет «Жизель».

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
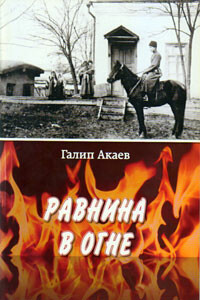
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.
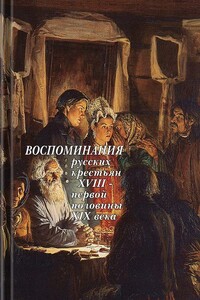
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.