Стихотворения - [11]
В этом кахетинском цикле торжествует изобразительно-пластическая стихия, в нем щедро представлен пейзаж и жанр, а стих тяготеет порою к тонко стилизованному народному ладу — и к песне, и к разговорной речи, и к своего рода пиросманиевской высокой простоте. Веет здесь и важа-пшавеловским духом… Но все это — тонко, незримо, призрачно, с неким волшебным привкусом, призвуком…
Но 1922 год и начало 1923-го были знаменательны для Галактиона Табидзе и иными поэтическими порывами, вновь возносящими его «поверх барьеров Родины и Лада». Это целый ряд так называемых «Эфемер» («Эфемера», «Снова эфемера», «Морская эфемера», «Новогодняя эфемера», «Родная эфемера»). Здесь вновь встречаются в поэзии Галактиона Моцарт с Бетховеном, солнце с бурей и ураганом, вновь устремляют в будущее свой самозабвенный и неистовый бег Галактионовы «синие кони», но полет их не то чтобы стал дерзновеннее и смелее — он победительнее, целеустремленнее, увереннее. Вот где их шаг (вспомним прозаический набросок поэта) по-новому тверд, дерзок и революционен, а музыка вокруг звучит «грузинской музыкой», хотя раздается она от полюса к полюсу — по меридианам пустынь и оазисов, по пересечениям времен и пространств. Да, разумеется, это все те же «синие кони», и всадник на них все тот же, но ведь между 1916 и 1922 годами произошли события эпохального исторического значения. И, оставаясь верным себе, поэт верен и бегу времени, шуму времени, музыке времени.
Первая из «Эфемер» Галактиона Табидзе… Поэт — родина — мир — космос; поэзия — жизнь — смерть — бессмертие; страдание — сострадание — избавление — радость; хаос — тревога — надежда — гармония. Казалось бы, все главные мотивы поэзии Галактиона Табидзе сведены здесь, чтобы бешеной сменой света и тени, «магии солнца» и «шаманства луны», грохота какофонии и мелодического трепета сопровождать стремительный бег его «синих коней», мчащихся к финишу Вселенских конных состязаний:
В «Эфемере», как сказано, были намечены темы поэзии и судьбы поэта. Они развиваются в стихотворении «Снова эфемера». Но на смену фантасмагории, напоминающей видения Иеронима Босха или Гюстава Доре, приходит образ поэта, художника, артиста таким, каким видела его романтическая поэзия первой половины XIX столетия и каким предстает он в урбанистических стихах второй половины XIX и начала XX веков. И если имена и поэтические мотивы, скажем, Мюссе и Готье здесь подразумеваются, хотя и не названы, то образы Верхарна и Достоевского непосредственно определяют лирический сюжет второго стихотворения цикла. Верхарн выступает здесь как «нового железного столетья Дант», исходивший все круги урбанистического ада, а воссозданный в стихе портрет Достоевского навеян картиной его гражданской казни со смертным приговором, эшафотом, палачом и запавшими, невидящими — все видящими — глазами гения… В финале прозвучит еще последний аккорд его образного лейтмотива — о странном и страшном состоянии мира, безветрии, когда затаившийся ветер все же отсекает головы поэтов, то есть — в образной системе стихотворения — самых высоких деревьев, и именно потому, что они слишком высоки.
Да это заговор равных — Смерти и Жизни, а жертвы — Поэт, Художник, Артист, Искусство.
И тогда в тысячный раз поднимается в душе из века в век повторяющийся вопрос — быть иль не быть?
И когда наступает в жизни поэта час таких вопросов — может случиться непоправимое. Так решается Галактион Табидзе на роковой шаг — в 1922 году он уничтожает, сжигает все свои рукописи, письма, дневники, любимые книги… Но, опомнившись, внесет в новый дневник трагическую запись: «В какое бесконечное и бездонное одиночество и тоску я погружен. Потеряно, уничтожено мною же все, что писалось с детства, все, буквально все. Никогда не испытывал я ничего похожего… Будто умерла сама юность моя: вся моя юность, бессонные ночи, целый мир чувств и переживаний — радости прилежного труда, самоотдачи, самозабвенных порывов… Я один, совершенно один, и кто мне вернет то, что потеряно!.. Будущее?!»[16] Как отзвук этого отчаяния возникает третья, «Морская эфемера» — о корабле «Надежда», который готовится поглотить пучина… В «Морской эфемере» запечатлены многие образы, которые в других стихах (через год — в «Буре» и пять лет спустя — в «Городе под водой») будут переосмыслены: из хаоса вновь родится гармония. Но и теперь, в том же сложном двадцать втором году, уже в четвертой по счету эфемере — «Новогодней» — возникает гармонический моцартианский мотив с отголосками поэзии французского «Парнаса» и легким, миротворящим отблеском благородного гедонизма Готье — Делароша. Вспомним знакомые нам образы стихотворений «Примирение», «Поэзия — прежде всего» и «К Готье». В «Новогодней эфемере» воскресают все эти мотивы, заключенные на этот раз в современный, светлый лирический сюжет (словно по модели — «печаль моя светла»), овеянный мечтою о новом Моцарте, о новой Беатриче, о возможности примирения со смертью — через «прощальный возглас лебединый». А мы знаем, что такое примирение и есть преодоление, оно и есть бессмертие.
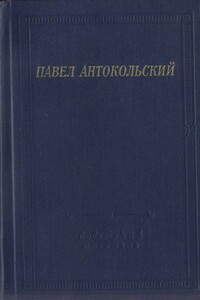
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

В. Ф. Раевский (1795–1872) — один из видных зачинателей декабристской поэзии, стихи которого проникнуты духом непримиримой вражды к самодержавному деспотизму и крепостническому рабству. В стихах Раевского отчетливо отразились основные этапы его жизненного пути: участие в Отечественной войне 1812 г., разработка и пропаганда декабристских взглядов, тюремное заключение, ссылка. Лучшие стихотворения поэта интересны своим суровым гражданским лиризмом, своеобразной энергией и силой выражения, о чем в 1822 г.
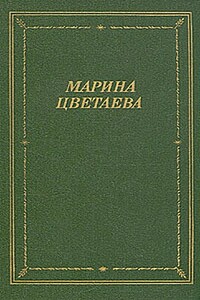
Объявление об издании книги Цветаевой «Лебединый стан» берлинским изд-вом А. Г. Левенсона «Огоньки» появилось в «Воле России»[1] 9 января 1922 г. Однако в «Огоньках» появились «Стихи к Блоку», а «Лебединый стан» при жизни Цветаевой отдельной книгой издан не был.Первое издание «Лебединого стана» было осуществлено Г. П. Струве в 1957 г.«Лебединый стан» включает в себя 59 стихотворений 1917–1920 гг., большинство из которых печаталось в периодических изданиях при жизни Цветаевой.В настоящем издании «Лебединый стан» публикуется впервые в СССР в полном составе по ксерокопии рукописи Цветаевой 1938 г., любезно предоставленной для издания профессором Робином Кембаллом (Лозанна)
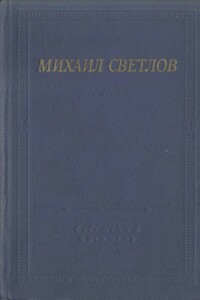
В книге широко представлено творчество поэта-романтика Михаила Светлова: его задушевная и многозвучная, столь любимая советским читателем лирика, в которой сочетаются и высокий пафос, и грусть, и юмор. Кроме стихотворений, печатавшихся в различных сборниках Светлова, в книгу вошло несколько десятков стихотворений, опубликованных в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов и фактически забытых, а также новые, еще неизвестные читателю стихи.
