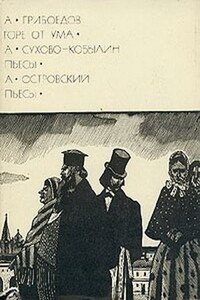Был день Патрона
>{103}, день торжеств священных.
Заполнен замок крестоносцев клиром.
Везде знамена плещутся на стенах,
Конрад всех чествует богатым пиром.
Вокруг стола сто белых веет мантий,
На каждой — черный крест в размеры роста,
За каждым креслом для достойных братий
Почтительно стоят оруженосцы.
Конрад воссел за стол на первом месте,
Витольд с ним рядом со своей дружиной.
Враг Ордена — он ныне с ними вместе:
Против Литвы вступил в союз единый.
Магистр привстал и кубок поднимает:
«Прославим бога!» — Кубки ярко блещут.
«Прославим бога!» — Стол весь повторяет,
И край о край вино кипит и плещет.
Сам Валленрод, о стол оперши локоть,
С презреньем за разгулом наблюдает;
Шум молкнет, и беседы тихой рокот
Да кубков звон молчанье нарушает.
«К веселью, братья! Что ж так тихо стало?
Как будто вы в раздумье или в страхе.
Так пировать ли рыцарям пристало?
Разбойники мы, что ли, иль монахи?
В мои года пиры иными были, —
Когда, врагов разбив и опрокинув,
При лагерных кострах мы шумно пили
В горах Кастильи или в землях финнов.
Там пелись песни!.. Нынче средь собранья
Здесь нет ли барда или менестреля?
Вино — сердец вздымает ликованье,
Но песня мысль живит сильнее хмеля».
Тотчас певцы различные явились:
То итальянец соловьиным тоном
Конрада славит мужество и милость,
То трубадур от берегов Гаронны
Поет влюбленных пастушков прелестных,
Красоты дам и рыцарей безвестных.
Конрад задумался. Умолкло пенье…
Он к итальянцу взоры подымает
И с золотом кошель ему бросает:
«Вот за хвалы твои — вознагражденье.
Мне одному твои неслись хваленья:
Одним лишь этим награжу я струны.
Возьми и скройся с глаз. Певец же юный,
Который пел о том, что сердцу мило,
Пусть нас простит, — мы сердцем слишком грубы,
И нет здесь той, которая ему бы
В награду хоть бы розу подарила.
Здесь розы все увяли. Нет! Иного
Певца здесь рыцари-монахи ждали,
Чья песнь звучала б дико и сурово,
Как рев рогов и грозный скрежет стали,
Чтоб сумрачней была молитвы в келье
И яростней пустынника похмелья.
Для нас, кто убивает и спасает,
Пусть песня смерти возвестит спасенье,
Пусть возбуждает гнев и изнуряет,
Неся для угнетенных устрашенье;
Жизнь такова — будь тем же песнопенье.
Кто так споет? Кто?»
«Я», — ответ донесся
Встает старик седой, послушный кличу,
Сидевший посреди оруженосцев,
Пруссак или литовец по обличью;
Он, временем и горем иссушенный,
Лоб и глаза прикрыты капюшоном,
Но на лице его рубцы страданий.
И, левую поднявши кверху руку,
Пирующих он попросил вниманья;
И, старой прусской лютни внявши звуку,
Насторожилось шумное собранье.
«Давно я пел для пруссов и литвинов;
Одни, родной земли не сдавши с бою,
Слегли; а те — покончили с собою,
Труп родины погибшей не покинув,
Как верная и добрая дружина
Себя сжигает с трупом господина.
Иные в чаще скрылись, за лесами,
Иные, как Витольд, живут меж вами.
Но после смерти… Немцы, вам известно,
Что будет с тем за гробовой доскою,
Кто предал родину свою бесчестно?
И если предков призовет с тоскою,
Пыланьем преисподней пожираем,
То зов его не долетит до рая;
Да разве в речи варварской немецкой
Признают предки прежний голос детский?
О дети! Как Литвы кровавы раны!
Ничьей души не тронула забота,
Когда в немецких кандалах, бесправно
От алтаря влачили вайделота…
Так одинокие года промчались.
Певец несчастный — не для кого петь мне.
Ослеп от плача, о Литве печалясь,
Как край родной, не знаю, рассмотреть мне:
Хочу увидеть дом мой, где он, дом мой, —
Кругом враждебный край и незнакомый.
И только здесь вот, в сердце, сохранилось
Все лучшее, чем родина гордилась,
Сокровищ прах, жемчужных песен нити, —
На память, немцы, их себе возьмите!
Так рыцарь, побежденный на турнире,
Жизнь сохранивший, но лишенный чести,
Осмеянный и отчужденный в мире,
Опять явясь на пораженья месте,
Остаток сил последних напрягает
И, меч сломав, к ногам врага бросает, —
Так и меня взяла теперь охота
Еще раз опустить на лютню руку.
Внимайте же напеву вайделота,
Последнему литовской песни звуку».
Окончив, ждет магистра он сужденья,
Затихли все в молчании глубоком;
Витольдово лицо и поведенье
Конрад пытливым наблюдает оком.
Все видели: Витольд в лице менялся
От звуков вайделотова напева,
При слове об измене покрывался
Он пятнами стыда, румянцем гнева.
И, наконец, рукой сжимая саблю,
Идет, локтями растолкав собранье,
Взглянул на старца, стал, как бы расслаблен,
И туча гнева в бурные рыданья
Вдруг разразилась, слез исторгнув капли.
Он повернулся, сел, плащом закрылся
И в черное раздумье погрузился.
Меж немцев ропот: «Разве среди пира
Нужна нам старца плачущая лира?
Кто, эту песню слыша, понимает?» —
Так за столом надменно рассуждают.
Над песнею глумясь при общем смехе,