Стихотворения и поэмы - [13]
Начнем разбор этой поэмы с темы земли, природы: сравнительно с «Рабочим днем» она в «Дороге к миру» занимает заметное место и играет самостоятельную роль — родная земля действительно участвует в драме войны. В художественной системе она как бы «помогает» бойцам: березы им кивают сиротливо, дождик прикрывает их сеткой, ветер гладит им головы, солнце заглядывает им в лицо, израненная трава кланяется им колосками… И падает трава на колени, когда проносятся над нею немецкие «мессера». Трава — ключевой образ в этой системе связей человека с родной землей; чувствуется, что породил Луконина степной край; у него и в лирике, в стихотворении «Машинист»: «Я траву высокую поставил над головой…» Здесь то же: упасть в траву лицом — спрятать лицо от огня.
Интересно, что, отрицая в стихах Заболоцкого мотив жалости к природе, Луконин в эту же пору практически приходит к близким чувствам. Жалости Заболоцкого тут, конечно, нет. Но есть ощущение того, что земля живая. Беззащитная. «И я боялся бегать по лужам, чтоб в небо нечаянно не провалиться…» Этот детством навеянный образ отвечает у Луконина глубинному плану мироощущения: земля, стеклянно отраженная в небе, небо — в земле. Мир завершен и… хрупок. Его надо беречь. Понять себя на родной земле, в связи с родной землей. Это станет темой и предметом следующей, главной поэмы Луконина и окрасит в его творчестве целое десятилетие — пятидесятые годы.
Сейчас, в «Дороге к миру», этот мотив идет как бы вторым голосом. А что — первым? Что определяет? Что связывает воедино эти сменяющиеся картины, в которых дан как бы срез истории войны: выход из окружения 1941 года — Сталинград — Курск — Харьков — Корсунь-Шевченковский — граница? Поэму держит разветвленная сетка сюжетных связей, личных судеб. Эти линии — логично ли или самым фантастическим образом — обязательно сходятся, смыкаются, кольцуются; люди, услышавшие друг о друге, в конце концов встречаются; попутчик, с которым герой поэмы вместе выходит из окружения, оказывается в финале тем комбатом, к которому приводят пленного, а пленный этот оказывается тем самым рыжим немцем, которого они с 1941 года запомнили в деревне под Брянском, когда во дворе упала перед ним на колени русская крестьянка.
Враги в поэме — уже не та сплошная, слепая масса, след которой ощущался в «Рабочем дне». Масса расчленена. Вот пленные идут толпой, опустив почерневшие лица… У них есть лица! Немец — контрагент нравственного действия. «Я хочу говорить с ним…» Не убить его, не сжечь, не вымести просто — говорить. Убить — это еще не разрешение вопроса. Надо главный вопрос решить, надо немца спросить кое о чем… «Не стесняйся, закури, подсудимый… Ты помнишь, у Брянска была деревенька?!» Деревенька 1941 года, хлипкий сарай, в котором спрятались окруженцы, а во дворе хозяйничают оккупанты, и сквозь щели сарая видно, как они уводят корову, и слышен бабий плач — хозяйка упала на колени: «Пан!..» И этот рыжий взглянул на нее и, усмехнувшись, бросил своим: «Dünger-menschen! Навозные люди…»
Удар пули, танковая атака, бомбежка, окружение, горящие города, рвы мертвецов, встречные бон, рукопашные схватки — все бледнеет перед этим небрежным словом. Можно перейти курганы черепов, но нельзя стерпеть «научный труд» герра профессора Бельфингера «Сравнительное изучение черепов и влияние их различий на ум». Можно месить грязь, навоз — дюнгер… Но невозможно стерпеть пощечину, невозможно, когда немка бьет батрачку, пригнанную с востока, по щекам. Можно сгореть в танке. Но идти на шаг сзади немецкого барина и мирно нести ему чемоданы невозможно! Само слово это произнести невозможно: «Барин…» — кровь в лицо бросается…
Здесь суть. Когда историки русской революции размышляли о движущих народных силах ее, то, учтя все социальные, экономические и политические причины, потом, после всего, замечали еще вот что: очень уж русский барин был не похож на русского мужика. Ходил не так, говорил непонятно, одевался иначе. Детали… А ранило, представьте, больней, чем капитальные имущественные контрасты. Презрением несло от этой непохожести. Почти иррациональная вставала ненависть. Ибо здесь было замешано достоинство.
В нравственной системе поэмы Луконина есть этот коренной, всеопределяющий мотив: здесь замешано достоинство. «Избранная раса» и «навозные люди». Инстинкт крови, упакованный в научные теории. Обмеры черепов, преподаваемые чистенькому школяру чистеньким учителем. Вот что вызывает у Луконина холодное бешенство — они чистенькие!
Так сплавилось с первоначальным луконинским романтизмом все то, что было спрессовано в другой первоначальности — в вековой социальной памяти поколений. И вскипающее самолюбие, и уязвленное достоинство мальчишки, кинутого в батраки, и бешеная гордость, скопленная поколениями там, в вольных южных степях.
Дети и судьбы, отцы и история, кровный союз человека с породившей и вскормившей его землей — вот круг проблем, над которыми бьется Луконин все следующее десятилетие. Результат — «Признание в любви», главная его поэма.
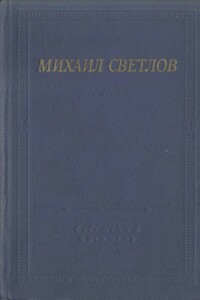
В книге широко представлено творчество поэта-романтика Михаила Светлова: его задушевная и многозвучная, столь любимая советским читателем лирика, в которой сочетаются и высокий пафос, и грусть, и юмор. Кроме стихотворений, печатавшихся в различных сборниках Светлова, в книгу вошло несколько десятков стихотворений, опубликованных в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов и фактически забытых, а также новые, еще неизвестные читателю стихи.

В эту книгу вошли произведения крупнейших белорусских поэтов дооктябрьской поры. В насыщенной фольклорными мотивами поэзии В. Дунина-Марцинкевича, в суровом стихе Ф. Богушевича и Я. Лучины, в бунтарских произведениях А. Гуриновича и Тетки, в ярком лирическом даровании М. Богдановича проявились разные грани глубоко народной по своим истокам и демократической по духу белорусской поэзии. Основное место в сборнике занимают произведения выдающегося мастера стиха М. Богдановича. Впервые на русском языке появляются произведения В. Дунина-Марцинкевича и A. Гуриновича.

Основоположник критического реализма в грузинской литературе Илья Чавчавадзе (1837–1907) был выдающимся представителем национально-освободительной борьбы своего народа.Его литературное наследие содержит классические образцы поэзии и прозы, драматургии и критики, филологических разысканий и публицистики.Большой мастер стиха, впитавшего в себя красочность и гибкость народно-поэтических форм, Илья Чавчавадзе был непримиримым врагом самодержавия и крепостнического строя, певцом социальной свободы.Настоящее издание охватывает наиболее значительную часть поэтического наследия Ильи Чавчавадзе.Переводы его произведений принадлежат Н. Заболоцкому, В. Державину, А. Тарковскому, Вс. Рождественскому, С. Шервинскому, В. Шефнеру и другим известным русским поэтам-переводчикам.
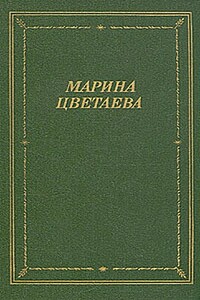
Объявление об издании книги Цветаевой «Лебединый стан» берлинским изд-вом А. Г. Левенсона «Огоньки» появилось в «Воле России»[1] 9 января 1922 г. Однако в «Огоньках» появились «Стихи к Блоку», а «Лебединый стан» при жизни Цветаевой отдельной книгой издан не был.Первое издание «Лебединого стана» было осуществлено Г. П. Струве в 1957 г.«Лебединый стан» включает в себя 59 стихотворений 1917–1920 гг., большинство из которых печаталось в периодических изданиях при жизни Цветаевой.В настоящем издании «Лебединый стан» публикуется впервые в СССР в полном составе по ксерокопии рукописи Цветаевой 1938 г., любезно предоставленной для издания профессором Робином Кембаллом (Лозанна)