Степь ковыльная - [7]
Павел никогда раньше не бил нагайкой своего Алмаза. Но на этот раз он стегнул жеребца. Оскорбленный конь сторожко всхрапнул, повел ушами, покосился на хозяина влажным синеватым зрачком и стрелой понесся к станице.
III. Набег ногаев
В канун ногайского набега в станичной избе, по вызову вернувшегося из Черкасска станичного атамана, собрались старики.
Важно посматривая на станичников, атаман сообщил им великую новость:
— Радуйтесь, старики, и всем поведайте в станице: пусть отныне все спят спокойно — набегов ногайских на нас белее николи не будет. Навсегда конец им кладется. В Черкасск-город и в соседние с ним станицы Войска Донского царские полки прибывают — гренадерские да мушкетерские, гусарские да драгунские, конная и пешая артиллерия. Войска те в поход на Кубань двинутся на замирение ногаев, чтобы на веки веков зареклись они набеги на края наши отчьи-дедичьи делать.
Казаки заулыбались, взволнованно переговаривались. Выждав немного, атаман продолжал:
— Как вам ведомо, шесть полков старый Дон Иванович уже послал на линию Кубанскую, а ныне еще десять будет послано. Ногаи про тот поход уже прознали, и многие улусы ихние откочевали за Кубань, собираются вместе, чтоб отпор дать. Да только где им обороняться против силы грозной?
Степенные казаки точно помолодели, у многих явилась мысль: «А не тряхнуть ли мне стариной? Не вздеть ли вновь ногу в стремя? Ведь на коне нам, казакам, ладнее сидеть, чем на скамье».
Живой, бойкий старик Хохлачев с белыми пушистыми усами, — свисавшими полудугами книзу, по-запорожски, даже вскочил со скамьи. Нарушив чинный обычай, он перебил атамана и взволнованно спросил:
— А кто же, Демид Прокофьевич, командовать будет тем войском? Наш ли, донских кровей, войсковой атаман Алексей Иванович Иловайский или царский генерал? Ведь наших-то шестнадцать полков на ногаев пойдут, говоришь ты, сила немалая! В обиду будет, ежели не наш атаман все те силы возглавит.
Атаман усмехнулся в бороду и медленно продолжал:
— А командовать всем оным войском приказ даден государыней — матушкой царскому генералу… — атаман приостановился, кашлянул, будто в горле у него запершило.
— Да не томи ты наши души! — вскочил опять Хохлачев, приплясывая от волнения на месте и размахивая руками. — Да что ты слово по слову точно на лопате подаешь? Тянешь, как дьякон, многолетие возглашая. Кого, кого, говори, назначили?!
Сухоруков невозмутимо продолжал:
— …генералу Александру Васильевичу Суворову.
Все повставали со скамей, радостно загомонили:
— В добрый час!
— Достойный! Дюже достойный! — крикнул фальцетом Хохлачев. — В Семилетнюю вместе с ним я воевал! Он в последний год той войны легким корпусом командовал семью казачьими и тремя гусарскими полками, в авангарде всей армии шел.
— Лихой командир! — восторженно подхватил станичный есаул Кораблев, обычно очень спокойный, невозмутимый. — Я у него в отряде служил. Смелый и знающий дело военное… Глаз у него наметливый, вострый. Не иначе как его прадеды донскими казаками были.
— А я с ним у Козлуджи был! — воскликнул казначей Оружейников, старик с веселыми глазами. — Всех-то войск у Суворова было восемь тысяч, а турок впятеро больше. Ух, и накрошили же мы тогда их в конной атаке!.. Он нас, казаков, дюже уважает… И конь под ним завсегда донской… И вестовой у него, опять же, донской казак — Егор Селезнев.
Атаман постучал булавой о стол и, когда все затихли, сказал, довольно улыбаясь:
— Ну будя, будя, старики. Ишь, как разбушевались, словно в атаке… Уж если вы сами генерала Суворова одобряете — стало быть, выбор правильный сделан… Давайте расходиться, уже темнеет, дома жинки ждут вечерять.
Хохлачев и Кораблев, соседи по хатам, издавна дружили меж собой. Как только кончилось совещание в станичной избе, они направились домой вместе. По дороге Хохлачев продолжал рассказывать о Суворове:
— … Служил я тогда в полку войскового старшины Луковкина, а Суворов в те поры в чине подполковника был и шел с нами завсегда впереди всей армии. Раз как-то у города Швейдница послали в разведку шестьдесят донцов — и Суворов с нами отправился. Наткнулись мы на эскадрон черных гусар. Стояли они на высоком холме. А Александр Васильевич усмехнулся этак задорно — и нам: «Ну что, донцы-молодцы, ударим на них или назад повернем? Сами видите, их почти вдвое больше, да и позицию сильную занимают». Ну, мы, конечно, все, как один: «Веди нас!» И что ж ты думаешь? Дважды в атаку ходили, и дважды нас отбивали ружейным огнем. И только в третий раз дорвались мы до них, взяли в пики. Мало кто из тех гусар уцелел…
Когда проходили мимо хаты попа Стефана, Кораблев сказал с досадой Хохлачеву:
— Знаешь что, кум, надо нам на станичном правлении всерьез потолковать о попе нашем, пора дать ему острастку. Уж больно жаден, вымогает от станичников непомерную плату за обряды церковные. Ежели, к примеру, принесут младенца крестить, три гривны требует. А дашь меньше, так он окрестит все ж, да только беды потом зачастую не оберешься. И ведь не подкопаешься к нему-по церковным правилам все делает! Ну, вот, скажем, в этом году апреля семнадцатого принес ему новорожденного Корольков Панфил — сам знаешь, казак бедный — и сказал, что у него в кошельке лишь пятиалтынный есть. Поп взял ту монету, сунул в карман свой бездонный и нарек младенца по имени святого, что на тот день пришелся, — Хусдозат. А мальчонка другого казака, Вишина Алексея, тоже гольтепа, назвал Павсикакием: на тот день в аккурат празднование этого святого угодило. Ну, посуди сам, кум, — возмущался Кораблев, — ведь прям-таки издевку чинит он над голью станичной. Каково же отцу-матери кликать тех детей ласково? Задик — одного, а другого: — Какик, что ли? Тьфу, срамота одна! А как подрастут они, сколько надсмешек им по всей станице придется выслушать? Вот и выходит так: поп, чтоб младенцу имя наречь, за перо берется, а у казака борода от страха трясется.
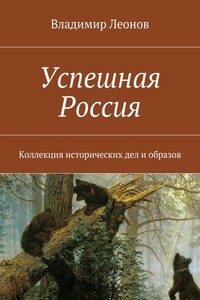
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
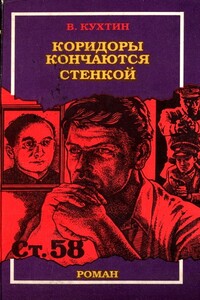
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.