Старая проза (1969-1991 гг.) - [2]
Он выглядел теперь куда старше своих тридцати двух. Сорок, а то и с гаком — можно было дать спокойно, без натяжки. И седины побольше стало. Вот он — Север. Через пяток лет — совсем старик.
— Освежить?
Он не сразу понял, чего от него хочет эта мамаша. Совсем отбился от людей, отвык. Как ни верти, а уж семь лет с краткими перерывами он и радовался и бедовал в одиночестве. Одно название чего стоит — Далекий.
Капитаны судов изредка отмечают остров Далекий на своих планшетках красным крестиком, но наверняка никто из них ни разу не останавливал на нем своего взгляда, ни разу его размытые очертания не преломлялись в призмах их дальнозорких биноклей: слишком отдален он от всех трасс, линий и фарватеров.
В одной из расщелин скал, там, где порывы норд-оста и норд-веста не так беспощадны, среди побуревшего лишайника, стоит крошечный домик.
Здесь, на этом маленьком острове, живет Байдаров. Уже семь лет. Один.
Геодезическое управление, в которое попал Байдаров по оргнабору после армии восемь лет назад, было одним из крупнейших в стране.
Здесь можно было встретить летчиков и водолазов, метеорологов и ботаников, охотников-промысловиков и строителей-бетонщиков… Все они жили бурно и стремительно: прилетали, улетали.
Геологи таскались, вытаптывали тундру и приносили образцы пород и карты маршрутов; пилоты, краснолицые, с кожей, загрубевшей от утомительных ожиданий на ветру летной погоды, возили людей и их барахлишко, возили рыбу и оборудование, кантовали туда-сюда солярку в бочках, концентраты в ящиках, сушеный лук в мешках… перебрасывали с точки на точку аккумуляторы и экспортный гагачий пух; радисты держали связь с десятками станций, и в аппаратной управления всегда слышался прерывистый писк телеграфных сообщений.
Байдаров попал в самый круговорот этой спешащей, пахнущей бензином и снегом жизни.
Отслужив три года действительной на армейском локаторе, он пошел на гражданке настройщиком радиостанций. Здесь всем требовалась безупречная, надежная связь. От нее зависели жизни. Часами просиживал, копаясь в схемах, мучаясь с диодами, коптя канифолью. Хорошая была работа. Но потом судьба привела его на Далекий.
Он хорошо помнил ту весну.
Пришла любовь.
Они бродили над берегом моря, у которого звенели льдины, а Байдаров, глядя на низкое солнце, светившее розовым пятном среди серого неба, злился, что здесь весной не бывает ночей. А может быть, это было еще чудеснее — ходить вдвоем по городу, когда все спали, и целоваться при неярком солнечном свете посреди пустой улицы…
Он чувствовал, что дорог ей, он узнал от нее много новых своих имен, которые никому никогда не смел бы повторить, она горячо шептала их ему, а он, удивляясь себе, не узнавая себя, как робкий семнадцатилетний мальчишка, смотрел в светлое окно северной ночи, занавешенное старой газетой, на серо-голубое небо. Для него всё было ясно. Все было решено…
Но шло время, она похорошела, стала больше молчать, и когда он целовал ее, чуть отодвигалась и не прикрывала глаза, как раньше, а бросала куда-то быстрые взгляды из-под ресниц.
— Ну вот что, хватит, — сказал Байдаров однажды, когда она в третий раз не пришла на свидание и он заявился к ней в заснеженном полушубке с заиндевевшими бровями, бледный, хоть и с мороза…
— Не кури, Петя, — сказала она.
Байдаров посмотрел на нее, по всему чувствуя, что он, в общем, здесь ни к чему, и что недаром так чисто и прибрано в комнате. Она не обращала на него внимания, проходя мимо, бездумно, по привычке погладила по голове, и Байдаров вдруг вскочил с табуретки, прижал ее к себе, крепко, отчаянно — она оттолкнула его.
Байдаров сразу отпустил ее, она твердым шагом отошла к зеркалу, поправила прическу, посмотрела на него из зеркала и усмехнулась: не суди, мол, уж как есть — так есть.
Говорить было ни к чему. Чувствовал — он её задерживал. Она — ждала. Ждала — не его. Он нахмурился, окинул взглядом комнатку и пошёл к выходу. Она накинула белый пуховый платок, вышла за ним, они молча постояли минуту.
— Ладно, иди, а то простынешь. — Байдаров надвинул шапку на самые глаза и быстро сбежал по лестнице.
Он не помнил, где шатался, как пришел в общежитие, обмел веничком унты и, хоть было еще рано, забрался с головой под одеяло. Жить дальше… Ну да. Конечно. Нужно было жить.
Приходить в девять ноль-ноль, здороваться, натягивать наушники, регулировать тестер, снимать дымящимся паяльником капли олова с болванки, собирать схемы, обедать в столовке, вполуха слушать чужие разговоры, ругать или хвалить поварих, макать в горчицу недосоленные ромштексы, смотреть на женщин, забивать «козла», когда станет совсем невмоготу. Читать книжки. Пить.
Надо было подаваться отсюда.
Слишком многие знали от него самого, как сильно он счастлив, как здорово у него все и какая отличная у него Наталья…
Куда уедет, где пристанет — понятия не имел. Север велик. Арктика необъятна. Везде бегут невидимые радиоволны. Руки его везде сгодятся.
Был последний восход перед полярной ночью.
Второй день радиостанции прерывали на полуслове свои передачи, чтобы сообщить после тревожной паузы о продвижении циклона, неотвратимо приближавшегося с севера. Люди, давно привыкшие к его набегам с заносами, трехметровыми сугробами, порванными проводами и закрытыми школами, кивали, как старой знакомой, белесой, массивной туче, в глубинах которой прятался буран. Она не торопясь выплывала из-за моря, покрытого льдом, и уже дохнула на город холодным ветром, когда самолет, тяжело завывая, вылетел из-за крыш и круто ушел вверх.
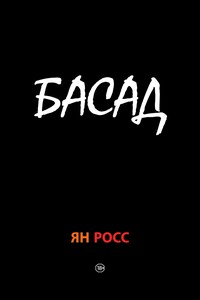
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.
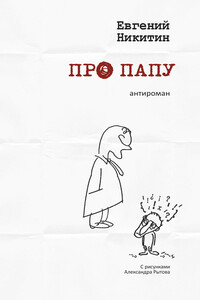
Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.