Старая проза (1969-1991 гг.) - [112]
Она не отозвалась. Она… как бы спала, но я чувствовал как натянута она вся в этом решительном, холодно-непреклонном противлении мне.
Обида?… Разочарование?.. Что нахлынуло на меня — сдавило грудь, стиснуло виски?..
Лежать вот так, рядом, было невозможно.
Я встал и босиком подошел к окну. Отодвинул штору и уставился в отчужденный безразличный мир.
Синий мрак, а в нем — темные дома, дрожащие огоньки, трубы, от которых поднимались светлые дымы — все там было и существовало как бы отвлеченно и отстраненно от нас, в полнейшем равнодушии к нам.
Утраченное… потерянное вдруг, минуты назад — казалось уже недосягаемым… несбыточным и невозможным — стремление всюду и во всем быть вместе, неразделимыми… чтобы раскрыть окно и слушать, обнявшись, ночные звуки: фурканье малорослой длинногривой лошадки во дворе гостиницы, манящие в дальнюю даль тревожные гуды и перестук железной дороги…
Я приоткрыл форточку. С улицы пахнуло мокрым сеном, углем, студеной свежестью. Я стоял, вдыхал эти запахи морозной зимней ночи словно просыпаясь и трезвея.
Я подошел к постели. Теперь она и правда спала, и брови ее были нахмурены. Что снилось ей и отчего так тревожно смотрела она внутрь себя закрытыми глазами?..
Осторожно, боясь прикоснуться к ней, я прилег рядом, слушая тишину… какие-то скрипы, шорохи… ее дыхание.
Рассвет мы проспали и вышли из гостиницы, когда город под солнцем уже сверкал снегом. В это субботнее утро еще почти никого не было на улицах, и это безлюдье было нужно нам.
Солнце пронизывало негреющим светом дымный от стужи воздух, играло в окнах низких домов, в старинных, писаных уставным шрифтом — разве что без твердых знаков и ятей — вывесках.
Улицы поднимались по крутым холмам, скатывались в долину реки, угадывавшейся голыми заиндевелыми ракитами по берегам, и дома и домишки, строеньица и хибарки громоздились уступами крыш, а над ними высился шпиль колокольни.
Успенский собор стоял, вознесясь и подчиняя себе город, устремясь к небу своими круглыми, светло-златыми главами, и белая мощь его стен, темные барабаны под куполами и простые кресты — все звенело суровой музыкой древности. А на площади перед собором с каменной серой глыбы смотрел на далекие Золотые Ворота черный, в заснеженном шлеме, Александр Невский…
Я вглядывался в лепные украшения домов, в каменных бородатых львов, выступавших из стен, и хотя все это было так знакомо по Москве, Питеру, Одессе — я удивлялся им, будто никогда не видел подобного, и во всем искал и находил свою, едва приметную особенность… Все в этом городе казалось присущих только ему: и праздничное, ярмарочное многоцветье стен, и театральная уютность улиц, и ясные лица редких прохожих. Люди эти казались иными — они должны были быть совсем не такие, как москвичи, в их городе жизнь двигалась в неспешном ритме иного измерения, и им наверняка должно было хватать времени, чтобы сосредоточиться и додумать то, на что нам — времени не хватало.
Мы уходили куда-то по новым… незнакомым улицам, и минувшая ночь была уже далеко позади, и ледяное солнце как могло старалось отогреть нас, но вошедший в меня спокойный холод не отступал, и уже было как-то пустовато-странно… невесомо-печально и скорбно-прекрасно в этот день рядом с ней.
Тонкая ледяная игла не таяла в сердце, торчала постоянно, и — то ли благодаря этой боли, то ли почему-то ещё, не поддающемуся уразумению, — моя душа, мое сознание и глаза были обостренно пристальны, зорки и приметливо-чутки ко всему вокруг, и я словно мгновенно и безошибочно проникал во всё, прозревая главную изначальную суть.
Я был художником — то есть открыл уже что такое линия и пятно, что такое отношения тонов и цвета, но еще лучше я знал, что не это — главное.
А оно — это то необъяснимое преображение в твоих мыслях, а после — в рисунках, картинах, гравюрах — всякой частицы мира увиденного — в мир понятый и вновь сотворенный тобой и только одним тобой — в мир, присущий лишь одному тебе и воплощенный лишь в тебе свойственной пластике… Быть может в том и была коренная и мучительно тяжкая задача всякого искусства, и я знал что бывали дни, а подчас и месяцы, когда я не мог и не умел видеть этой пластики претворенного мира.
Но в этот день… и я чувствовал — в сосредоточении тайного внутреннего страдания — глаза мои были раскрыты. И в этой радости, рожденной болью, — была своя мудрая, разъедающая душу, истинность жизни.
Целый день мы бродили по Владимиру, слонялись по уличкам и проулкам, заходили в музеи, покупали книжки, сувениры, гостинцы московским друзьям… я любовался ею — высокой, с длинными стройными ногами в черных сапожках на каблуках, мы обменивались какими-то легкими необязательными словами… день пролетел и уже под вечер — будто ничем не связанные друг с другом кроме этого города — пошли в Успенский смотреть фрески Рублева.
Кончался день и солнце былинным малиновым диском уходило за собор, и он рисовался четким синим силуэтом на фоне светящегося неба.
Мощеная широкими каменными квадратами присоборная площадь стыла обратившейся льдом водой, и не один раз мы упали на этой скольжине, пока подошли к пустой паперти.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.
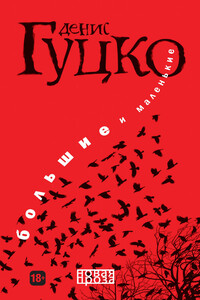
Рассказы букеровского лауреата Дениса Гуцко – яркая смесь юмора, иронии и пронзительных размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются парадоксальным образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей сестры? Что ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? О чем мечтает маленький ребенок неудавшегося писателя, играя с отцом на детской площадке? Начиная любить и жалеть одного героя, внезапно понимаешь, что жертва вовсе не он, а совсем другой, казавшийся палачом… автор постоянно переворачивает с ног на голову привычные поведенческие модели, заставляя нас лучше понимать мотивы чужих поступков и не обманываться насчет даже самых близких людей…

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.
