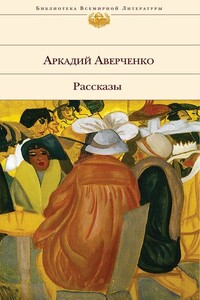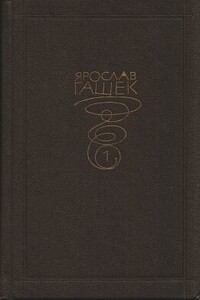Не глядя, он протянул руку и выдернул шнур. Так же не глядя, он снял телефонную трубку и соединился с выставочным комитетом. «Возчики с выставки только что выехали за «Углекопами», — сообщили ему.
У него оставалось двадцать минут. Пять из них он пролежал с таким же каменным взглядом, устремлённым в сторону «Углекопов». Потом он поднялся и приступил к тщательному туалету.
Он умывался и брился дольше обычного.
Может быть, из-за того, что пришлось смывать с зубов крем для бритья, а выдавленная на подбородок зубная паста долго не хотела мылиться.
Чай показался ему немножко холодноватым. В этом не было ничего удивительного — не надо было включать чайник в штепсель радиоточки.
Оставшиеся пять минут Баклажанский простоял лицом к лицу со своими «Углекопами». Они неподвижно смотрели друг на друга.
Потом Баклажанский медленно направился в угол комнаты и взял в обе руки большой дворницкий лом, забытый ещё вчера натурщиком-совместителем Провом Васильевичем.
Когда в студию вошли возчики с выставки, глазам их представился финал единоборства скульптора со своими произведениями.
Скульптор победил. У ног его валялась разрубленная на куски гидра о трёх одинаковых головах.
Щедро вознаграждённые возчики вынесли на помойку мраморный лом.
А Баклажанский включил радиотарелку и под бодрый утренний марш стал заново приводить себя в порядок. Он тщательно причесал волосы, растрепавшиеся в ходе сражения со скульптурами, затем попытался самостоятельно вычистить костюм, носивший явственные следы прошедшего единоборства. Это ему не удалось.
Тогда Федор Павлович вспомнил о Гребешкове.
Кстати, нужно было получить, наконец, свои брюки, которые директор комбината торжественно обещал ему «ускорить».
С неостывшей бодрящей злостью шёл Баклажанский в комбинат бытового обслуживания.
«Начать все сначала! — говорил он себе. — Правильно!.. В будущее надо входить чистым!»
Семен Семенович Гребешков встретил Баклажанского как родного. Он радостно всплеснул своими голубыми нарукавничками, бросился навстречу скульптору и немедленно потребовал от него подробный отчёт о самочувствии, аппетите, кровяном давлении и душевном состоянии, словно тот пришёл к врачу. Сходство с поликлиникой усугублялось ещё и тем, что в репсовых шатрах за его спиной все время кто-то раздевался.
Гребешков извинился за свой назойливый допрос, по напомнил скульптору, что через каких-нибудь два месяца Баклажанскому предстоит поделиться с человечеством созревающей в нем сывороткой долголетия.
Скульптор охотно отвечал на расспросы Гребешкова. Под конец он сообщил Семену Семеновичу о своих творческих сомнениях, энергично обругал своих каменных дворников и рассказал об их бесславном конце.
- Вы понимаете, вечность обязывает! — горячо говорил он поддакивавшему Гребешкову. — Куда с ними в века? Нет, я сделаю что-нибудь новое. Замечательное! ещё не знаю, что именно, но я сделаю!
Гребешков растроганно встал и, не найдя слов, с чем-то даже поздравил скульптора.
— Вы ещё много налепите за ваши триста лет! — обнадеживающе заметил он.
—Поживем — увидим! — добродушно повторил Баклажанский свою фразу, которая уже становилась у него привычной поговоркой. — Подумать только, что я нашёл истину на этом скромном столе, вот в таком же скромном графине, как этот.
— В каком графине? — переспросил Гребешков, и выражение его лица испугало скульптора.
— Точно в таком, как этот... — повторил Баклажанский и указал на графин, стоящий перед Гребешковым. — А что?
— Федор Павлович, дорогой, вы ошибаетесь! Это же обыкновенный мосторговский графин! — волнуясь, воскликнул Гребешков.—-Умоляю вас, вспомните, ведь вы пили из другого... Вот из того, что стоит на круглом столе — в виде стоячей рыбы... Верно ведь?
— Нет, — твердо сказал Баклажанский, неодобрительно посмотрев на стеклянного налима. — Этот графин сделан по моему эскизу. Из него я пить не мог... Это точно!
— Ну да, конечно! — сказал Гребешков бледнея. — В тот день товарищ Петухов делал упор на воду. На каждом столе стояло по графину, а то и по два... Ай- ай-ай! — схватился он за голову. — Все пропало!
— Что пропало? — переспросил Баклажанский, смутно предчувствуя недоброе. — То-есть как это пропало? Я же пил! Я же точно помню...
— Да, вы пили, — глухо подтвердил Гребешков.— Но вы пили обыкновенную воду, Федор Павлович...
— А мои века? — Баклажанский попытался улыбнуться, но улыбка получилась какая-то неправдоподобная. — Позвольте, где же мои столетия?
— Не знаю, — безвольно махнул рукой Гребешков. — Ничего я теперь не знаю.
И только тогда Баклажанский с неожиданной горечью осознал катастрофичность происшедшего. Бессмертие на минуту осенило его своим крылом и унеслось в неизвестность, оставив после себя лишь печальную груду мраморных обломков.