Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства - [8]
Это сочувствие к низшим слоям общества и осуждение их могущественных притеснителей в значительной мере проистекали из социального учения церкви, которая с подозрением относилась к богатству и превозносила бедность, считая ее идеальным состоянием. Правда, осуждение богатства, столь решительное в произведениях отцов церкви III–V вв., было несколько приглушено в литературе того времени, когда сама церковь стала крупнейшей собственницей. Прославление же бедности проходит лейтмотивом через все литературные памятники Раннего Средневековья. В бедняках видели божьих избранников, — «избранничество» должно было служить им своего рода моральной компенсацией за земные невзгоды. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие» — эта евангельская сентенция (Матф., 19:24) была популярна в Средние века. Однако духовенство никогда не настаивало на том, что слова Нового завета нужно понимать буквально и, следуя им, отказываться от богатства, хотя никому не возбранялось раздать свое имущество и принять обет добровольной бедности.
Программа церкви в этом отношении практически сводилась к требованию милостыни в пользу бедняков. О способах прекращения бедности и не помышляли, — подаяние призвано было ее увековечить, поскольку оно склоняло нищих к тому, чтобы оставаться в положении иждивенцев, кормящихся от крох, уделяемых зажиточными. Нищета возводилась в моральное достоинство. Своего рода культ бедности порождал, по свидетельству ряда церковных авторов, осуждаемое ими «чванство бедняков». Впрочем, в житиях святых эта «заносчивость бедных» подчас поощрялась. Парижский епископ Герман, получив в подарок от короля Хильдеберта коня с повозкой, употребил этот дар для выкупа пленника, хотя король просил святого, чтобы тот никому не отдавал его подарка. Автор жития говорит: «… для священника больше значил глас бедняка, нежели короля» (59, с. 385). Подлинным гимном добровольной бедности звучит стихотворная легенда о святом Алексии, удалившемся от богатых родителей и умершем в нищете (56).
В бедняках видели не столько несчастных, чью жалкую участь необходимо облегчить, сколько спасителей богатых. Бедные существуют для того, чтобы богатые могли искупить свои грехи; богатые же нужны бедным, дабы те могли кормиться около них. Подаваемая бедняку милостыня, писал Алкуин в конце VIII в., позволяет подавшему попасть в рай; земные сокровища, будучи розданы беднякам, превращаются в вечные богатства, вторил ему ученик его Храбан Мавр (160, с. 186). Таким образом, бедность не осознавалась как социальная проблема, которую обществу надлежит разрешить. Нельзя не заметить при этом, что во главу угла ставилось не положение того или иного члена общества или социального разряда, а взаимное служение всех на благо целого.
Церковь стояла на позициях сохранения сложившегося порядка и учила, что каждый член общества должен жить сообразно своему положению, а не добиваться изменения своего правового или имущественного статуса.
Спиритуализуя социальные противоречия, церковное учение делало их как бы иллюзорными: поскольку подлинная жизнь человека — это жизнь души, единение с Богом, постольку его общественное поведение имеет, собственно, лишь одну цель: не отяготить бессмертную душу грехами. Среди них на первом месте стояла гордыня, а под эту религиозно-моральную категорию легко подводились все попытки избавиться от своей доли.
Осуждение частной собственности церковью носило сугубо отвлеченный характер. Сотворенная Господом земля вместе со всем, что на ней произрастает и находится, была отдана в общее пользование людям. Своекорыстие людей после грехопадения привело к возникновению частной собственности. Поэтому праведна лишь бедность. В глазах общества она обладала высоким нравственным достоинством. Бедняк, с точки зрения церковного учения, был одновременно и предметом сочувствия или сострадания и образцом для подражания, в нем воплощался существенный идеал Средневековья.
В дальнейшем мы убедимся в том, как на более продвинутом этапе развития общества учение церкви подвергнется существенной модификации и будет сообразовываться с реальными социальными запросами верующих, в частности горожан. Пока же церковь занимала преимущественно консервативную позицию. Эта тенденция духовенства отчетливо проявилась в сочинениях литературы, так или иначе затрагивающих проблему крестьянства.
Уже в период Раннего Средневековья люди не могли не задумываться над устройством общества, его составом и соотношением частей. Способы и формы осознания общественной жизни обусловливались наличным мыслительным материалом. В IX и Х вв. возникает и со временем приобретает популярность учение о тройственном расчленении общества. Независимо от того, каковы были отдаленные истоки подобной конструкции, ее идеологическая суть в обстановке торжества католицизма сводилась к утверждению, согласно которому земная иерархия — не что иное, как порождение и отражение иерархии небесной, и обе они моделируются по образцу божественной Троицы (в законченном виде эта концепция представлена в сочинениях Псевдо-Дионисия Ареопагита, ставших известными на Западе в IX в. в латинском переводе Иоанна Скотта Эриу гены).
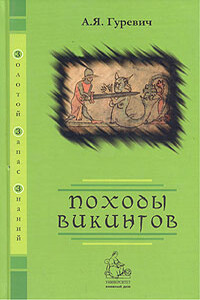
В книге рассказывается о викингах, чьи походы беспокоили Европу почти триста лет: с конца VII по XI века, став источником легенд о жестоких и кровожадных «северных людях». Автор, обращаясь к сообщениям западноевропейских хроник, сюжетам и описаниям скандинавских саг, археологическим находкам, рассматривает причины и последствия походов викингов не только для западноевропейских народов, но и для самой Скандинавии, рассказывает о торговле и раннесредневековых скандинавских городах, описывает быт и характеризует культуру скандинавов IX–XI веков.
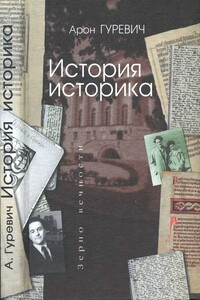
В книге обсуждаются судьбы советской исторической науки второй половины XX столетия. Автор выступает здесь в роли свидетеля и активного участника «боев за историю», приведших к уничтожению научных школ.В книге воссоздается драма идей, которая одновременно была и драмой людей. История отечественной исторической мысли еще не написана, и книга А. Я. Гуревича — чуть ли не единственное живое свидетельство этой истории.
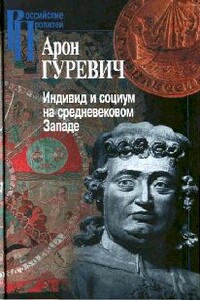
Современные исследования по исторической антропологии и истории ментальностей, как правило, оставляют вне поля своего внимания человеческого индивида. В тех же случаях, когда историки обсуждают вопрос о личности в Средние века, их подход остается элитарным и эволюционистским: их интересуют исключительно выдающиеся деятели эпохи, и они рассматривают вопрос о том, как постепенно, по мере приближения к Новому времени, развиваются личность и индивидуализм. В противоположность этим взглядам автор придерживается убеждения, что человеческая личность существовала на протяжении всего Средневековья, обладая, однако, специфическими чертами, которые глубоко отличали ее от личности эпохи Возрождения.
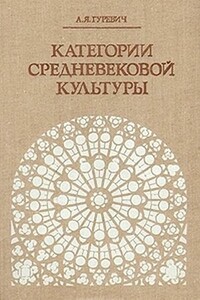
Во втором, дополненном издании книги (первое издание - 1972 г.) воссоздаются определенные аспекты картины мира людей западноевропейского средневековья: восприятие ими времени и пространства, их отношение к природе, понимание права, богатства, бедности, собственности и труда. Анализ этих категорий подводит к постановке проблемы человеческой личности эпохи феодализма. Под таким углом зрения исследуется разнообразный материал памятников средневековья, в том числе произведения искусства и литературы. Для специалистов - эстетиков, философов, искусствоведов и литературоведов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей культуры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
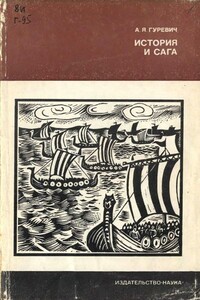
На протяжении многих столетий исландский народ играл роль хранителя культурных традиций древней Скандинавии, развивал и обогащал их. Среди произведений средневековой скандинавской литературы видное место занимает сочинение крупнейшего исландского историка Снорри Стурлусона «Хеймскрингла» («Саги о норвежских конунгах»), в которой изображена история Норвегии и других стран Северной Европы, а также содержится много сведений о соседях скандинавов, в том числе и о Руси. «Хеймскрингла» представляет большой интерес не только как исторический источник, но и как памятник скандинавской культуры, запечатлевший специфическое мировосприятие, отношение к времени, к человеческой личности, восходящие к эпохе викингов этические ценности и нормы поведения.

Первое издание на русском языке в своей области. Сегодня термин «вождь» почти повсеместно употребляется в негативном контексте из-за драматических событий европейской истории. Однако даже многие профессиональные философы, психологи и историки не знают, что в Германии на рубеже XIX и XX веков возникла и сформировалась целая самостоятельная академическая дисциплина — «вож-деведенне», явившаяся результатом сложного эволюционного синтеза таких наук, как педагогика, социология, психология, антропология, этнология, психоанализ, военная психология, физиология, неврология. По каким именно физическим кондициям следует распознавать вождя? Как правильно выстроить иерархию психологического общения с начальниками и подчиненными? Как достичь максимальной консолидации национального духа? Как поднять уровень эффективности управления сложной административно¬политической системой? Как из трусливого и недисциплинированного сборища новобранцев создать совершенную, боеспособную армию нового типа? На все эти вопросы и множество иных, близких по смыслу, дает ясные и предельно четкие ответы такая наука, как вождеведение, существование которой тщательно скрывалось поколениями кабинетных профессоров марксизма- ленинизма. В сборник «Философия вождизма» включены лучшие хрестоматийные тексты, максимально отражающие суть проблемы, а само издание снабжено большим теоретическим предисловием В.Б.
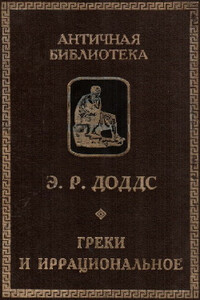
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.
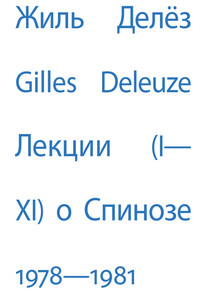
Спиноза (как и Лейбниц с Ницше) был для Делёза важнейшим и его любимейшим автором. Наряду с двумя книгами Делёз посвятил Спинозе курс лекций, прочитанных в 1978–1981 годы (первая лекция была прочитана 24 января 1978 года, а остальные с ноября 1980 по март 1981 года). В этом курсе Делёз до крайности модернизирует Спинозу, выделяя нужные для себя места и опуская прочие. На протяжении всех лекций Делёз анализирует, на его взгляд, основные концепты Спинозы – аффекцию и аффект; тему свободы, и, вопреки расхожему мнению, что у Делёза эта тема отсутствует, – тему смерти.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.