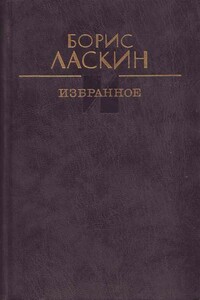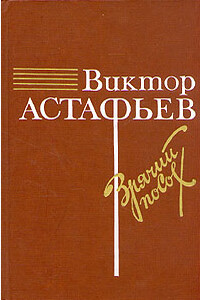А он ждал, ждал, что мы, большие начальники из Москвы, поможем в его незадаче. И председатель крикнул:
— Вопрос трудный, дедушка!.. Начальники обдумают и сообщат тебе!
— Да… да… — благодарно закивал головой старик.
— Ну-, все ясно? — словно ставя точку, произнес Окский.
Давно потеряв веру в старика, а с ней и надежду… на создание художественного очерка, он не вмешивался в разговор председателя со стариком, следя за происходящим с выражением грубой и нетерпеливой непричастности..
Поняв намек Окского, Вася Трушин, комсомольский секретарь, пошел за машиной. В комнате воцарилось молчание. Каждый думал свою думу.
А со стариком творилось что-то странное. Быть может, растревоженный председателем, он попал во власть далеких воспоминаний. Он ерзал на стуле, то порывался встать, то вскидывал руки, ворочал шеей, чему-то смеялся, утирая обильную слезу в своих синих глазах. И все время он бормотал — то громче, то тише; иногда казалось, что он бранится, но смех, которым он прерывал свое бормотание, никак не вязался с бранью. Казалось, что его обступили призраки былого и он ведет с ними напряженный, страстный и веселый разговор, радуясь этому нежданному свиданию через столько десятилетий. В его как будто бессвязной, глухой речи ощущался странный ритм, невольно привлекавший внимание, заставлявший вслушиваться в слова.
И мне кажется, всех присутствующих пронзило единым вздрогом, когда в звуковом сумбуре отчетливо прозвучало:
— А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!..
Он залился долгим-долгим смешком и пальцами обеих рук стал утирать слезы.
Не было толку добиваться, где и когда слышал, он монолог городничего: в родной ли деревне, куда, по утверждению старожилов, заезжал Щепкин, или сам он ездил с мужиками в Курск иль Орел подивиться в театре на великого земляка. Он этого, конечно, не помнил, как не помнил и самого Щепкина. Но что с того? Пусть давно стерлось в старческой памяти имя творца, но сила мощного чуда, поразившего душу чуть не столетие назад, сохранилась в этом обобранном годами существе. Да и можно ли называть «обобранным» этого старика, что, век с лишним прожив на земле, до сих пор нес в себе двойное счастье: любви и искусства?..
Мы заночевали в этой деревне. Нам постлали на сеновале, полном хрусткого, пахучего клевера.
Как всегда на новом месте, я долго не мог уснуть. В маленькое окошечко виднелось черное, глухое небо. Я подполз к окошку — небо тут же населилось звездами, будто только и поджидавшими меня, — и закурил, высунув наружу руку с папиросой.
Все спало кругом — крыши, деревья, дорога, — спало вблизи и вдалеке. Спал Окский, сердито поджав губы и во сне переживая свое дневное разочарование; спал в домике напротив Вася Трушин, комсомольский секретарь, смяв твердой скулой подушку; спал, а может, опять тревожил ночным беспокойством свою молодую бабку современник Щепкина; спали колхозные люди, копя силу для дневной жизни.
Не спали только у нас за стеной. Председатель все ходил и ходил по избе, я отчетливо слышал его то приближающиеся, то замирающие шаги, слышал тихий, звавший его женский голос и вновь мерные, неспешные шаги размышляющего человека. Видно, все думалось ему о той нелегкой крестьянской заботе, которую он по доброй воле взвалил на свои плечи. Мне вспомнилось все виденное и пережитое за день, вспомнились чудесное упорство и вера этого человека, оживившие почти неживое. И последнее чувство, какое я испытал, прежде чем сон опрокинул меня в пахучую духоту клевера, было нежное уважение к моему простому и прекрасному современнику.