Солнечный удар - [7]
— Простите, — перебил его Y, — разве не говорил я господину критику, что английский капитан напрочь забыл свою импровизацию двухлетней давности? К тому же, признаюсь, видя, какой оборот принимает дело, я сжег свои старые записи, которые могли бы составить грамматическую или любую другую основу этого языка. Поэтому данный язык должно считать несуществующим, даже в отношении тех двух человек, которые говорили на нем несколько месяцев.
— Смею надеяться, — возразил маститый критик, — что господа не думают, будто признаки реального существования любого языка невозможно различить вне грамматики, синтаксиса и даже, пожалуй, лексики. Просто уместнее будет отнести этот язык к разряду мертвых языков, восстановить которые возможно только на основе сохранившихся документов (в данном случае — трех стихотворений), — и кажущаяся проблема будет разрешена. Господам несомненно известно, — добавил он примирительно, — что от некоторых языков до нас дошли лишь немногие письмена, а значит, и весьма малое число лексических единиц. Тем не менее эти языки суть нечто вполне реальное. Скажу больше: даже языки, существующие только в виде неразгаданных, повторяю, не — раз — га — дан — ных надписей, даже такие языки заслуживают нашего пристального эстетического внимания.
Довольный этой фразой, критик умолк.
— Но позвольте, — возразил тогда я. — Оставим в стороне те языки, о которых господин критик упомянул в конце, хотя, по правде говоря, я не совсем понял его мысль, и обратимся к сказанному о языках ранее. Эти языки, полагаю я, реальны постольку, поскольку их существование обосновывается письменами, пусть даже и немногочисленными, но обратите внимание: обосновывается совокупностью лексики, грамматики и синтаксиса. Словом, письмена обладают признаками структуры, внутренней организации, определяющей их место во времени и пространстве. Иначе их было бы не отличить от любого знака на любом камне, точь-в-точь как в случае с неразгаданными надписями. Можно сказать, что письмена проливают свет на неизведанное прошлое, но и сами благодаря ему приобретают смысл. Это прошлое есть не что иное, как совокупность норм и условий, придающих данному выражению данный смысл. Итак, какое же прошлое, по мнению господина критика, имеют три наших стихотворения, из чего вытекает их смысл? За ними нет совокупности норм и условий. За ними лишь каприз мгновения, которому так и не суждено было стать системой, каприз, превратившийся в ничто, подобно тому как из ничего и возник.
Маститый критик искоса взглянул на меня; видно, мое «обратите внимание» не давало ему покоя. Ничуть не смутившись, я продолжал:
— Язык, воссозданный по редким письменам, не становится реальным до тех пор, пока не доказано, что по данным письменам можно воссоздать этот и только этот язык. В нашем же случае, при таких скудных данных, можно было бы создать или воссоздать не один, а сто языков. И тогда мы стали бы свидетелями прелестнейшего казуса: одно и то же стихотворение оказалось бы написанным одновременно на ста языках, во многом несхожих друг с другом и отличных от праязыка…
— По-моему, это просто софизм. Во-первых, по законам филологии в подобных случаях принято выстраивать ряд предположений. Такие предположения могут обладать всеми признаками относительной истины, оставаясь все же при этом предположениями. Теоретически это означает, что, основываясь на имеющихся письменах, можно воссоздать не только один язык. Во-вторых, какая господам разница, написано ли стихотворение одновременно на нескольких языках или нет? Главное, чтобы оно было написано на одном языке, и уже не так важно, схож ли этот язык с любым другим или, как выражаются господа, с сотней других языков, коль скоро существует это воображаемое языковое взаимопроникновение. В конце хотел бы заметить с точки зрения более, хм, возвышенной, что произведение искусства может существовать не только вне языковых условностей, но и вне всяких условностей вообще и является единственным мерилом по отношению к самому себе.
— Ну нет! — воскликнул я, видя, что от меня ускользает самый сильный аргумент. — Господину критику вряд ли удастся выйти сухим из воды. Ведь теперь уже господин критик рискует впасть в софизм. Тем более весьма любезно с его стороны признать, что речь идет о произведении искусства. Но как раз это и требуется доказать: каковы критерии, на основе которых господин критик выведет свою оценку? Позвольте на мгновение вернуться к моему прежнему рассуждению. Говоря о том, что любые письмена содержат и подразумевают некую совокупность языковых норм, я имел также в виду, что чисто языковые характеристики подкрепляются и усиливаются знанием не собственно лингвистическим, но и этническим. Исходя из того, что нам известно о данном народе, мы будем знать наверное, что взятое выражение значимо не только в определенном сочетании, но равным образом и во всех остальных аналогичных сочетаниях. К примеру, одно лишь знание того, что данный народ пользовался данным языком во внутренних и внешних сношениях, представляет для нас убедительное свидетельство неизменности значения отдельно взятого слова. За письменами, господин критик, стоит народ! Меж тем как за каждым из этих стихотворений, в чем мы уже убедились, — ничего, кроме каприза. Ну, а когда так, кто сможет с уверенностью утверждать, что раз от разу то же выражение не будет принимать прямо противоположное значение? В одном и том же сочинении или в разных. Ни одно слово, заметьте, не повторяется в трех стихотворениях дважды. Теоретически, господин критик, можно предположить, что каждое из трех стихотворений содержит некоторый образ (или идею, если угодно) и одновременно — так как ни у одного слова нет четко определенного значения — сотню, тысячу, миллион других образов (или идей).

Обедневший потомок знатного рода Ренато ди Пескоджантурко-ЛонджиноВведите, осматривая всякий хлам доставшийся ему от далеких предков, нашел меч в дорогих ножнах, украшенных чеканными бляхами…

Томмазо Ландольфи (1908–1979) практически неизвестен в России, хотя в Италии он всегда пользовался и пользуется заслуженной славой и огромной популярностью.Известный итальянский критик Карло Бо, отмечая его талант, неоднократно подчёркивал, что Ландольфи легко, играючи обращается с итальянским языком, делая из него всё, что захочет. Подобное мог себе позволить только Габриэле Д' Аннунцио.
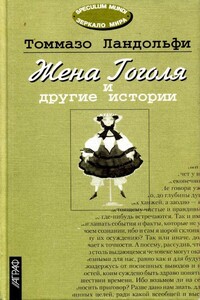
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эстетизм как форма сопротивления диктату жизни — таков один из основных литературных принципов классика итальянской литературы XX века, блистательного Томмазо Ландольфи (1908–1979). Роман «Осенняя история» — чудесный, полный тайн рассказ о загадочных событиях в старинном замке, куда случайно попадает главный герой, гонимый жестокой военной судьбой.

Томмазо Ландольфи очень талантливый итальянский писатель, но его произведения, как и произведения многих других современных итальянских Авторов, не переводились на русский язык, в связи с отсутствием интереса к Культуре со стороны нынешней нашей Системы.Томмазо Ландольфи известен в Италии также, как переводчик произведений Пушкина.Язык Томмазо Ландольфи — уникален. Его нельзя переводить дословно — получится белиберда. Сюжеты его рассказав практически являются готовыми киносценариями, так как являются остросюжетными и отличаются глубокими философскими мыслями.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.
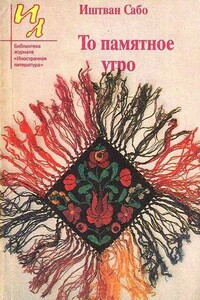
Можно попытаться найти утешение в мечтах, в мире фантазии — в особенности если начитался ковбойских романов и весь находишься под впечатлением необычайной ловкости и находчивости неуязвимого Джека из Аризоны.
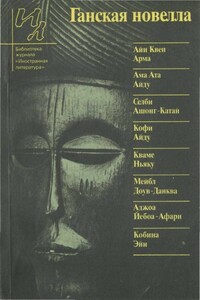
В сборник вошли рассказы молодых прозаиков Ганы, написанные в последние двадцать лет, в которых изображено противоречивое, порой полное недостатков африканское общество наших дней.

Йожеф Лендел (1896–1975) — известный венгерский писатель, один из основателей Венгерской коммунистической партии, активный участник пролетарской революции 1919 года.После поражения Венгерской Советской Республики эмигрировал в Австрию, затем в Берлин, в 1930 году переехал в Москву.В 1938 году по ложному обвинению был арестован. Реабилитирован в 1955 году. Пройдя через все ужасы тюремного и лагерного существования, перенеся невзгоды долгих лет ссылки, Йожеф Лендел сохранил неколебимую веру в коммунистические идеалы, любовь к нашей стране и советскому народу.Рассказы сборника переносят читателя на Крайний Север и в сибирскую тайгу, вскрывают разнообразные грани человеческого характера, проявляющиеся в экстремальных условиях.

Книга составлена из рассказов 70-х годов и показывает, какие изменении претерпела настроенность черной Америки в это сложное для нее десятилетие. Скупо, но выразительно описана здесь целая галерея женских характеров.