Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира - [3]
Первый и исторически более ранний путь вел через великие революции и гражданские войны к союзу капитализма и западной демократии. Второй путь был также капиталистическим, однако его кульминацией в XX в. стал фашизм. Два очевидных примера – Германия и Япония (но по причинам, названным выше, в данном исследовании подробно рассматривается только последний случай). Я буду называть это капиталистической и реакционной формой развития, равносильной революции сверху. В этих странах буржуазный порыв был намного более слабым. Если даже он принимал революционную форму, то революция терпела поражение. В итоге сегменты относительно слабого торгово-промышленного класса полагались на поддержку оппозиционно настроенных элементов из старых, все еще господствующих классов, в основном происходящих из сельской местности, для того, чтобы произвести политические и экономические перемены, необходимые для становления современного индустриального общества под контролем квазипарламентского режима. Под такой опекой индустриальное развитие продвигалось быстрыми темпами. Однако исходом этого процесса после краткого и нестабильного периода демократии стал фашизм. Третий путь был, конечно, коммунистический, если судить по России и Китаю. Грандиозные аграрные бюрократии в этих странах еще сильнее, чем в двух предыдущих случаях, мешали коммерческому, а впоследствии и промышленному развитию. Итог был двояким. Прежде всего городские классы были слишком слабы даже для того, чтобы сыграть роль младшего партнера по образцу модернизации в Германии и Японии, хотя попытки в этом направлении предпринимались. Кроме того, в отсутствие сколько-нибудь решительных шагов к модернизации сохранялся огромный слой крестьян. Эта страта, под воздействием новых тягот и лишений, которым подвергал ее современный мир, обеспечила главную разрушительную силу революции, опрокинувшей старый порядок и вытолкнувшей эти страны в современную эпоху под властью коммунистических режимов, чьими жертвами в первую очередь стало крестьянство.
Наконец, в Индии обнаруживается нечто вроде четвертой схемы, объясняющей слабое движение в направлении модернизации. До сих пор в этой стране не было ни капиталистической революции сверху или снизу, ни крестьянской революции, ведущей к коммунистическому правлению. К тому же движение в сторону модернизации было весьма нерешительным. Но некоторые исторические условия для возникновения демократии западного типа здесь оказались выполнены. Уже в течение некоторого времени существует парламентский режим, выполняющий не просто декоративную функцию. Поскольку порыв к модернизации в Индии был совсем слабым, этот случай не укладывается в теоретические схемы, которые можно сконструировать в других случаях. В то же время он служит благотворным испытанием для подобных обобщений. Это особенно полезно для попыток понимания крестьянских революций, поскольку уровень деревенской нищеты в Индии, где крестьянской революции не было, ничуть не выше, чем в Китае, где восстание и революция играли решающую роль как в досовременную, так и в актуальную эпохи.
Если сформулировать цель настоящей работы совсем кратко, то можно сказать, что она представляет собой попытку понять роль высших классов землевладельцев и крестьянства в буржуазных революциях, приведших к капиталистической демократии, в незавершенных буржуазных революциях, приведших к фашизму, и в крестьянских революциях, приведших к коммунизму. То, как высшие классы землевладельцев и крестьянство реагировали на вызов коммерческого сельского хозяйства, оказывалось решающим фактором в определении политического итога. Применимость этих политических ярлыков и элементы, по которым совпадали и различались эти движения в разных странах и в разные эпохи, я надеюсь, станут понятны в ходе последующего изложения. Однако один момент необходимо отметить сразу. Хотя в каждом случае возникает лишь одна доминирующая конфигурация, остается возможность для различения вторичных конфигураций, определяющих ход событий в других странах. Так, в Англии на позднем этапе Французской революции и до конца Наполеоновских войн сохранялись элементы реакционной конфигурации, которая стала господствующей в Германии: речь идет о коалиции между старыми землевладельческими и новыми торгово-промышленными элитами, направленной против низших классов города и деревни (но способной иногда рассчитывать на существенную поддержку со стороны низших классов по ряду вопросов). На самом деле эта реакционная комбинация элементов складывается в какой-то мере в каждом из рассматриваемых обществ, включая Соединенные Штаты. Еще одна иллюстрация: абсолютная монархия во Франции демонстрирует отчасти то же воздействие на коммерческую жизнь, что и бюрократические монархии царской России и императорского Китая. Наблюдения такого рода внушают несколько бо́льшую уверенность в том, что эмпирически найденные категории могут выходить за границы частных случаев.
Тем не менее сохраняется сильное напряжение между необходимостью воздать должное частному случаю и стремлением к обобщениям, в основном из-за невозможности осознать важность отдельной проблемы до завершения рассмотрения каждой из них. Это напряжение повинно в некотором дефиците симметрии и элегантности в предлагаемой работе, о чем мне приходится сожалеть, однако я так и не смог исправить этот недостаток даже после ряда переработок. Опять-таки помогает параллель с исследователем неизведанных стран: его призвание не в том, чтобы построить гладкое прямое шоссе для новой группы путешественников. Он вполне успешно справится с ролью проводника, если избавит их от напрасной траты времени из-за блужданий и ошибок, сопровождавших его первую экспедицию, любезно уклонится от того, чтобы повести своих спутников по самым гиблым местам, и укажет наиболее опасные ямы, осторожно обойдя их стороной. А если он вдруг оступится и попадет в ловушку, то в группе возможно найдутся и те, кто не просто посмеется над ним, но поможет подняться и вновь встать на правильный путь. Именно для такой группы соратников по поискам я и сочинил эту книгу.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Сборник документов и материалов. Составители: С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.
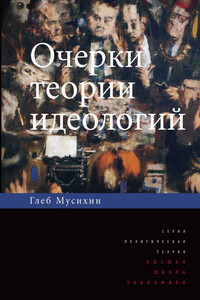
Монография посвящена анализу значимых тенденций в современном теоретическом исследовании идеологий. Обозначены основные тенденции в понимании идеологии как базового ценностного модуса политики. Зафиксированы наиболее проблемные тенденции в развитии тотальных идеологических векторов Современности (консервативного, либерального, социалистического). Поставлена проблема популизма как все более самостоятельного идеологического течения. Обозначен современный угол зрения идеологии как ценностного политического знания на такие базовые явления, как власть, государство, экономика, история, нация и культура.Автор монографии – Глеб Иванович Мусихин, профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой теории политики и политического анализа факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ.Книга адресована преподавателям, а также студентам и аспирантам специальностей «Политология», «Культурология», «Философия».
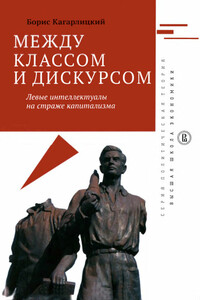
Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Вопреки распространенному мнению, трудности, которые испытывает капиталистическая система и господствующая неолиберальная идеология, не только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за классовые интересы защитой всевозможных «меньшинств». Кризис левого движения распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Америка, Западная Европа, Россия и Украина.

Роджер Скрутон, один из главных критиков левых идей, обращается к творчеству тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого направления мысли. В доступной форме он разбирает теории Эрика Хобсбаума и Эдварда Палмера Томпсона, Джона Кеннета Гэлбрейта и Рональда Дворкина, Жана-Поля Сартра и Мишеля Фуко, Дьёрдя Лукача и Юргена Хабермаса, Луи Альтюссера, Жака Лакана и Жиля Делёза, Антонио Грамши, Перри Андерсона и Эдварда Саида, Алена Бадью и Славоя Жижека. Предметом анализа выступает движение новых левых не только на современном этапе, но и в процессе формирования с конца 1950-х годов.
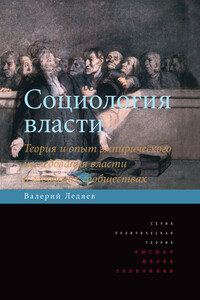
В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине XX в. и ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах; эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.