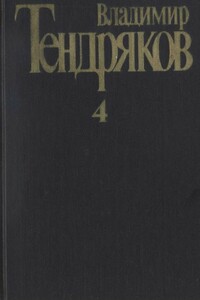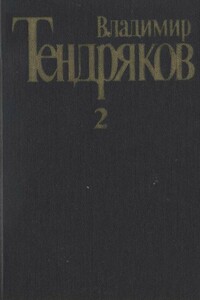В Утицах избы теплились редкими огоньками — добрые люди сидели за самоварами, на сон грядущий гоняли чаи. Светилось и окно в доме Павлы — не ждет Настю, было сказано, что заночует в Загарье. А окна Настиного дома не светят — нет окон, нет самого дома, лежат кучей бревна да коченеет на морозе широкая печь.
Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей… А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.
На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки днем передала Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой… Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же… Кому знать, что их были два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.
Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, привычный запах, с него у Насти всегда начинался рабочий день.
Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь…
И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий…
Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.
— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!
Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью — вдруг да в окно увидят, — оглянулась… Под топкой охапка сухих дров, рядом охапка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутыль с керосином?.. Ах, вот она.
Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой, — их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком, оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине, Канители, Кешке. И Кешке. И Кешке тоже…
Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат… Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибни. Что дороже — они или жизнь?
И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутыль, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню…
Помещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет… Керосиновый запах, одна спичка в солому…
«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?.. На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полушубок с чужого плеча…
«Марусенька, ох, закрутилась я…»
У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.
А утром:
— Батюшки! Настя! Беда у тебя!
Беда!! Всполошится, бросится опрометью, забудет про справки для матери, не дождется Пухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..
Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять, — одна спичка…
Но рано… Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свинарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.
Одна спичка… Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:
— Эй, Кешка!
Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла…
Кешка завозился в глубине.
Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.
— Эй, Кешка!
И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени — счастлив негаданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку.
— Гуляй, лапушка, живее…
Теперь все. Одна спичка!
И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одуванчик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясучке бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ…



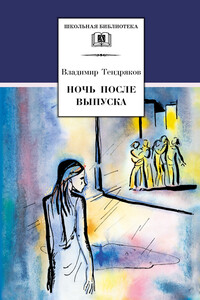



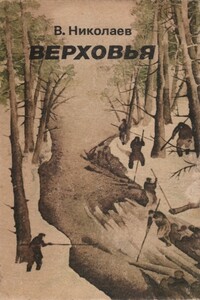
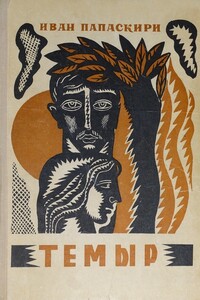

![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/storage/book-covers/05/05d9c1255e162c4d28377a44f7f614ec446ddd7b.jpg)
![Собрание сочинений. Том 3. Свидание с Нефертити : [роман]. Очерки. Военные рассказы](/storage/book-covers/6d/6d33c74004479594fc7801a6b05cf0cc46250a4b.jpg)