Собрание сочинений - [208]
Между последним абзацем и вот этим прошло чуть больше двух с половиной месяцев — Миновало. Небольшая сводка, от необходимости публикации коей я слегка кривлюсь, поскольку читается она в точности так, будто я собирался вам сообщить, что при работе всегда сижу на стуле, в Сочинительские Часы выпиваю свыше тридцати чашек черного кофе, а в свободное время сооружаю себе всю мебель; короче говоря, получится тон литератора, который охотно излагает свои рабочие привычки, увлечения и человеческие слабости — из тех, кои можно печатать, — опрашивающему его бюрократу из Воскресного Книжного Раздела. Я не собираюсь, однако, пускаться здесь в такие интимные детали. (Тут я вообще-то особо строго слежу за собой. Мне кажется, сочинению этому никогда не грозила более непосредственная опасность — стать непринужденным, как нижнее белье.) Я объявил о большой задержке между абзацами, дабы известить читателя о том, что я едва поднялся, девять недель провалявшись в постели с ювенильной желтухой. (Видите, что я подразумеваю под нижним бельем? Так вышло, что это последнее мое прямое замечание — заимствование, едва ль не intacta,[331] из фарса Мински.[332] Партнер Придурка:
— Я девять недель провалялся в постели с ювенильной желтухой.
Главный Придурок:
— Повезло тебе, собака. А мне одни старухи достаются.
Если таково мое карантинное свидетельство, лучше уж поскорее найти, как срезать путь обратно в Долину Хвори.) Когда теперь я вам сообщу, что уже встал и брожу почти неделю, а щекам моим, иначе ланитам, полностью возвращен румянец, интересно, истолкует ли мою информацию читатель превратно — главным образом, я предвижу, в двух смыслах? Первое: сочтет ли ее мягким упреком ему за то, что он пренебрег затопленьем одра больного камелиями? (Сейчас все с облегчением поймут — безошибочно, — что Юмор у меня убывает с каждой секундой.) Второе: предпочтет ли он, читатель, думать на основании сей Истории Болезни, что личное мое счастие — о коем столь тщательно трубилось в начале этого сочинения, — возможно, было никаким и не счастием, а всего лишь желчностью? Эта вторая возможность меня крайне серьезно беспокоит. Совершенно точно, что я поистине был счастлив писать сей Вводный курс. По-своему, простертым манером, я был сверхъестественно счастлив и со своей жизнерадостной желтухой (сама аллитерация должна была меня прикончить). И я экстатически счастлив в сей момент, счастлив вам доложить. Это не отрицает (и вот теперь я, боюсь, подобрался к истинной причине: я сконструировал всю эту витрину для своей бедной старой печенки) — это не отрицает, повторяю, что заболевание мое породило во мне единственный кошмарный дефект. Драматические отступы я ненавижу всем сердцем, но, полагаю, новый абзац этому поводу придется все же посвятить.
В первый же вечер, вот только на прошедшей неделе, ощутив в себе довольно бодрости и наглости, чтобы вернуться к работе над сим Вводным курсом, я обнаружил, что утратил не только вдохновение, но и средства к тому, чтобы писать далее о Симоре. Он слишком вырос, пока меня не было. Это едва ли правдоподобно. Из покладистого гиганта, каким он был до моей болезни, он всего за девять коротких недель подрос до самого задушевного друга в моей жизни, единственного, кто никогда, никогда не помещался целиком на машинописную страницу — по крайней мере, у меня. Говоря прямо, я запаниковал — и паниковал пять вечеров подряд. Хотя, пожалуй, не следует выставлять все в более мрачном свете, чем на самом деле. Ибо в таком худе случайно присутствует крайне поразительная толика добра. Позвольте сообщить вам — не переводя дух, — что я сделал сегодня вечером и отчего мне кажется, будто завтра вечером я вернусь к работе упорнее, нахальнее и, вероятно, возмутительнее, чем прежде. Часа два назад я просто прочел старое личное письмо — вернее, очень длинный меморандум, оставленный у меня на тарелке перед завтраком однажды утром в 1940 году. Под половинкой грейпфрута, если еще точнее. Всего через минуту-другую я намерен поиметь невыразимое («наслаждение» — не то слово, кое мне потребно) — невыразимый Пробел воспроизведения здесь длинного меморандума дословно. (О жизнерадостная желтуха! Я никогда не ведал хвори — или скорби, сиречь бедствия, — что не раскрылась бы, цветку подобно либо хорошенькому меморандуму. От нас требуется лишь присмотреться получше. Симор, когда ему было одиннадцать, как-то сказал в эфире, что в Библии больше всего любит слово ЗРИ!) Однако прежде чем я перейду к главному экспонату, мне с головы до пят приличествует разобраться с несколькими второстепенными деталями. Может, больше не выпадет случая.

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Единственный роман Сэлинджера, "Над пропастью во ржи" стал переломной вехой в истории мировой литературы. И название романа, и имя его главного героя Холдена Колфилда сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей - от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
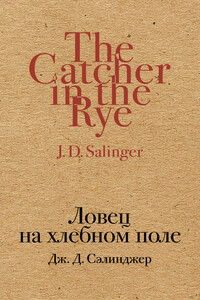
Знаменитый роман Дж. Д. Сэлинджера «The Catcher in the Rye» в переводе Макса Немцова. Перевод без цензуры и «без купюр». Непричесанный сленг главного героя Холдена Колфилда еще ярче воссоздает его обостренное восприятие действительности и неприятие общих канонов и морали современного общества.Единственный роман Сэлинджера стал переломной вехой в истории мировой литературы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Тедди — десятилетний мальчик. Он вундеркинд. Родители заняты собой. Младшая сестра его недолюбливает. Посторонние не сразу воспринимают всерьез. Однако думающему человеку есть о чем поразмыслить после беседы с ним. © Anastasia2012.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.
