Собеседники на пиру - [222]
«Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере театрального пространства, становится нормой бытовой речи и бытового поведения. <…> Искусство становится моделью, которой жизнь подражает».
(Лотман Ю., 1973б, с. 47)
На жизнь накладываются ритуальные романтические каноны: судьба реальных людей и даже сама их смерть строится по знаковым образцам, превращаясь в знак для будущих поколений. Мир преобразуется в текст.
Эта ситуация — не частая и по-своему замечательная — повторилась в русском Серебряном веке. Люди тех времен сплошь и рядом превращали свою жизнь в театр — от таких достаточно вульгарных случаев, как Нина Петровская или Марина Рындина, до таких, несомненно впечатляющих, как Белый, Блок или Волошин. Цветаева здесь была наиболее искренней и безоглядной. «Между искусством и существованием для нее не стояло ни запятой, ни даже тире» (Бродский, 1980, с. 53). Дело здесь не только в том, что поэтические тексты кодировали, структурировали ее жизненный текст, что свойственно большинству поэтов (вероятно, всем крупным поэтам). Дело еще и в театральности, проникшей в быт. Цветаева без конца примеряла романтические и трагические роли — от детских игр, от увлечения Ростаном. Точнее, она была романтической и трагической героиней (а нередко и героем): Эвридикой, Офелией, цыганкой, подконвойной, Анри-Генриеттой, Казановой. И, разумеется, коронной ролью ее жизни — мифом ее жизни — была Федра. В Елабуге Цветаева довела свою Федру — себя-Федру — до ритуального, архетипического конца.
В поэзии Серебряного века можно найти множество примеров этого перетекания театра в жизнь и театра в стихи. Особенно характерны именно стихи Пастернака, близкие к «Занавесу» по времени: «В тот день всю тебя, от гребенок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с собою и знал назубок, / Шатался по городу и репетировал» (1915); (звезды) «Отпирают, спрашивают, / Движутся, как в театре» (1917); «Два дня в двух мирах, два ландшафта, / Две древние драмы с двух сцен» (1918); «Как я трогал тебя! Даже губ моих медью / Трогал так, как трагедией трогают зал» (1918; ср. также Поморска, 1975, с. 54; Флейшман, 1977, с. 19–22, 25). Стихи Мандельштама «Я не увижу знаменитой Федры…» (1915) — вероятно, один из непосредственных подтекстов цветаевского «Занавеса» (впрочем, Мандельштам, в отличие от многих своих современников, резко разграничивал театр и жизнь, актера и поэта — ср. Мандельштам Н., 1972, с. 359–361). Стоит вспомнить и более поздние вещи поэтов — друзей Цветаевой, например стихи «Мейерхольдам» (1928) и, разумеется, стихотворение «Гамлет» (1946) у Пастернака; ахматовские строки «Двадцать четвертую драму Шекспира / Пишет время бесстрастной рукой» (1940); «Лайм-лайта позорное пламя / Его заклеймило чело» (1959; ср. Чуковская, 1980, с. 300); «мейерхольдовых арапчат» из «Поэмы без героя» и др. Примеры из самой Цветаевой многочисленны, хотя ее отношение к театральному искусству неоднозначно.
Театр генетически и структурно есть упрощенный, «профанированный» вариант сакрального пространства, где происходит ритуальное действо (в пределе восходящее к кровавой жертве) — где «дышат почва и судьба». Сцена — пространство, где ритуальность возведена в квадрат, где вещи суть только знаки вещей, а люди — знаки людей (или кого-то большего, чем люди). Это конечное, замкнутое, с бытовой точки зрения сводящееся к нулю пространство моделирует бесконечную вселенную — материальную, равно как и нематериальную (ср. Лотман Ю., 1970, с. 302–303).
Там, где сопоставляется «не-текст» (недостаточный текст) жизни и текст искусства, особое значение приобретает граница между ними. Чем больше эта граница размывается, чем чаще и необратимее она пересекается, тем более она ощутима. «…Именно мифологизирующий аспект текста связан в первую очередь с рамкой, в то время как фабульный стремится к ее разрушению» (Лотман Ю., 1970, с. 259). В театре границу представляют занавес и рампа (ахматовский лайм-лайт). Они обладают особой семиотичностью, оказываясь знаком искусства (и ритуала). Занавес есть субститут: для мифо-поэтического воображения он в ослабленном виде отображает, обозначает завесу в храме («мощная завеса нас отделяет от другого мира»), ту самую завесу, которая, по евангельскому преданию, разверзлась и упала в миг мировой трагедии.
Занавес может стать элементом художественного текста (ср. Лотман Ю., 1970, с. 256) и даже кем-то вроде персонажа (ср. хотя бы постановку «Гамлета» Ю. Любимовым). Он может быть отменен, но тогда само его отсутствие является минус-приемом, игрой на обманутом ожидании (пока не превращается в дешевое клише, как во многих современных постановках). Если занавес и рампа — граница художественного текста в пространстве, то антракт — граница или разрыв его во времени. Антракт также воспринимается обостренно, как нечто исполненное ожидания и ворожбы, требующее особенных форм поведения. Лотман утверждает, что в антракте «семиотичность понижается до минимума» (Лотман Ю., 1973б, с. 57); однако Цветаева в нашем тексте наделяет антракт

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.
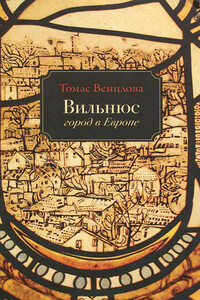
В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города. Автор повествует о Вильнюсе, ставшем ныне центром молодого государства, готового к вызову, который зовется Европой. Офорты - Пятрас Ряпшис (Petras Repšys)

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.