Сны и камни - [23]
Ход событий не прерывается ни на мгновение. События искривляют русло, обнажают острова. Поток воды обтачивает берега — единственное о ней воспоминание. В том месте, где чаще всего случались аварии, построен подземный переход. Где бойко шла торговля — возникли рынки, где шатались воры — возведен полицейский участок. Даже футбольные матчи и шумные концерты оставляют на стенах разноцветные отпечатки. Повсюду полно знаков — подспорьев для памяти. А также красноречивых вмятин от знаков отмененных или износившихся.
Наименование вещей помогает лишь ненадолго. Все названное тоже забывается, поскольку назавтра каждое слово потребуется уже для новой вещи. События, для которых никто не находит слов, будут преданы забвению в первую очередь. Потертые определения подобны потерянным квитанциям — соответствующие им воспоминания уже не вернуть. Забвение уносит жесты и гримасы, уносит стремительные тучи, дождевые капли на стекле, порывы ветра. Жители города пытаются создать новые слова, более удобные, чем прежние, — но тщетно. Новые слова ничем не лучше старых и столь же своевольны. Город перемен создан памятью, что гонится за вчерашним днем. Этот город целиком и полностью зависим от воспоминаний — замков из песка, заливаемых водой. Терзаемый волнами забвения, город нуждается в жителях — носителях мыслей, вопросов и стремлений, впитывающих городские пейзажи, позволяющих городу запомнить самое себя.
Глаза прохожих ежедневно скользят по подземным переходам, рынкам, полицейским участкам. Скользят по надписям на стенах домов и лестничных клеток. Опирающаяся на перила ладонь ощущает под пальцами старый исцарапанный лак. И таким образом натыкается на повседневные мысли. Главным образом, это маленькие и твердые утренние мысли, заключающие в себе самые пустяковые вопросы, а то и вовсе полые. Они прячутся в одежде, в предметах, в мебели, в отличие от мыслей вечерних, острые иголки которых торчат — для памяти — под черепной коробкой. Стены лестничных клеток испещрены всевозможными линиями и потеками, иной раз весьма застарелыми. Некоторые мысли, не нашедшие себе пристанища, могут полностью впитаться в какой-нибудь потек, что попадается на глаза всякий раз, когда поднимаешься или спускаешься по лестнице. Это позволяет им спастись от забвения и продержаться еще немного. Потом выясняется, что значение потека изменилось. Язык потеков скуден и небрежен. Формы вынуждены выражать противоречивое содержание. Правда, содержание это само по себе уже столь небрежно и скудно, что недостойно даже формы потеков.
Порой, хоть и не всегда, мысли позначительнее способны принять облик какого-нибудь крупногабаритного предмета, к примеру, трамвая на остановке. Возьмут да и уедут вместе с ним, обрекая память на тщетный труд поисков. И лишь этот труд не позволяет рассыпаться миллиарду темно-красных кирпичей. Город перемен, воздвигнутый памятью и разрушаемый забвением, — это город смерти. Поток смерти обходит стороной лишь каменных каменщиков и металлургов в каменных одеждах, что из глубины своих ниш каменными глазами без зрачков следят за уличным движением. Ведь воплощенная в них форма жизни не боится ни наводнений, ни пожаров, ни сноса зданий. Оторванная каменная голова может продолжать свое существование, не более неподвижная, чем когда она венчала шею. Одинокая ладонь останется столь же бездейственной, как в ту пору, когда она соединялась с предплечьем. Указательный палец и на дне реки, наполовину увязший в ил и оплетенный водорослями, останется указательным пальцем. Даже каменная крошка, которой посыпают дороги, имеет свой вес и объем, а также свое место в пространстве.
В жизни камней полностью отсутствует принуждение. Потеряв опору, они падают. Упав — лежат. Будучи не в силах изменить данную им форму, принимают ее с величайшим равнодушием. Столь же бесстрастно камни существуют или рассыпаются. Что бы ни произошло, никогда не добавляют ничего от себя. Не сделают ни малейшего усилия, чтобы что-либо предпринять. Не обрадуются, не огорчатся, ни в чем их не убедишь. Они невозмутимы, ибо не боятся страдания. Лампочка, потухнув, тоже не плачет, кабель не пытается избежать короткого замыкания, а дерево не бежит от пламени.
Жители этого города, возможно, и позавидовали бы свободе камней, если бы только умели ее разглядеть. А ведь и в них, не знающих о том и знать не желающих, заключена, помимо эфемерной жизни тела и разума, нетленная жизнь камня. То же, что они сами именуют своей жизнью, — не более чем лихорадка, которая терзает мысли, измученные вечным движением песка, инерцией глины и тревожным плеском воды. Обитатели этого города не стремятся к жизни камней, единственной, реально им данной. Их страшит каменный покой стен, и в особенности — твердость не ведающей сомнений каменной руки, жесткость не тронутых печалью черт, холодное равнодушие монолита. Заключенный в камни и кирпичи мир безмолвия, лишенный мыслей, чувств и желаний, поражает и пугает. И жизнь без желаний кажется еще более невыносимой, чем жизнь без их исполнения — повседневный удел многих обитателей этого города.

Рассказ польки Магдалены Тулли «Бронек» посвящен фантомной памяти об ужасах войны, омрачающей жизнь наших современников, будь они потомками жертв или мучителей.

Глава «Бегство лис» из книги польской писательницы Магдалены Тулли «Итальянские шпильки». Автор вспоминает государственную антисемитскую компанию 1968 года, заставившую польских евреев вновь почувствовать себя изгоями. Перевод Ирины Адельгейм.
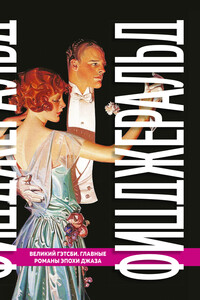
В книге представлены 4 главных романа: от ранних произведений «По эту сторону рая» и «Прекрасные и обреченные», своеобразных манифестов молодежи «века джаза», до поздних признанных шедевров – «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». «По эту сторону рая». История Эмори Блейна, молодого и амбициозного американца, способного пойти на многое ради достижения своих целей, стала олицетворением «века джаза», его чаяний и разочарований. Как сказал сам Фицджеральд – «автор должен писать для молодежи своего поколения, для критиков следующего и для профессоров всех последующих». «Прекрасные и проклятые».

Читайте в одном томе: «Ловец на хлебном поле», «Девять рассказов», «Фрэнни и Зуи», «Потолок поднимайте, плотники. Симор. Вводный курс». Приоткрыть тайну Сэлинджера, понять истинную причину его исчезновения в зените славы помогут его знаменитые произведения, вошедшие в книгу.
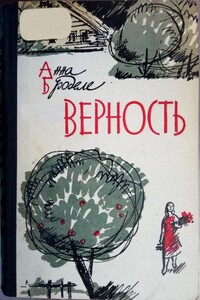
В 1960 году Анне Броделе, известной латышской писательнице, исполнилось пятьдесят лет. Ее творческий путь начался в буржуазной Латвии 30-х годов. Вышедшая в переводе на русский язык повесть «Марта» воспроизводит обстановку тех лет, рассказывает о жизненном пути девушки-работницы, которую поиски справедливости приводят в революционное подполье. У писательницы острое чувство современности. В ее произведениях — будь то стихи, пьесы, рассказы — всегда чувствуется присутствие автора, который активно вмешивается в жизнь, умеет разглядеть в ней главное, ищет и находит правильные ответы на вопросы, выдвинутые действительностью. В романе «Верность» писательница приводит нас в латышскую деревню после XX съезда КПСС, знакомит с мужественными, убежденными, страстными людьми.
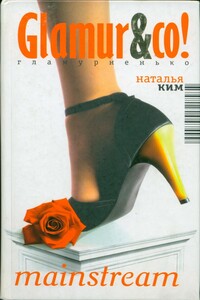
Что делать, если ты застала любимого мужчину в бане с проститутками? Пригласить в тот же номер мальчика по вызову. И посмотреть, как изменятся ваши отношения… Недавняя выпускница журфака Лиза Чайкина попала именно в такую ситуацию. Но не успела она вернуть свою первую школьную любовь, как в ее жизнь ворвался главный редактор популярной газеты. Стать очередной игрушкой опытного ловеласа или воспользоваться им? Соблазн велик, риск — тоже. И если любовь — игра, то все ли способы хороши, чтобы победить?

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
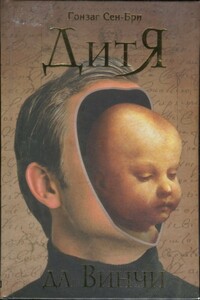
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.
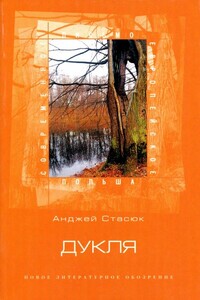
Анджей Стасюк — один из наиболее ярких авторов и, быть может, самая интригующая фигура в современной литературе Польши. Бунтарь-романтик, он бросил «злачную» столицу ради отшельнического уединения в глухой деревне.Книга «Дукля», куда включены одноименная повесть и несколько коротких зарисовок, — уникальный опыт метафизической интерпретации окружающего мира. То, о чем пишет автор, равно и его манера, может стать откровением для читателей, ждущих от литературы новых ощущений, а не только умело рассказанной истории или занимательного рассуждения.
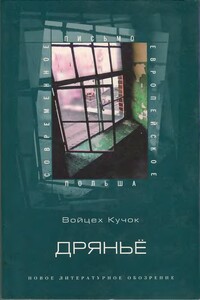
Войцех Кучок — поэт, прозаик, кинокритик, талантливый стилист и экспериментатор, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Нике»» (2004), полученной за роман «Дряньё» («Gnoj»).В центре произведения, названного «антибиографией» и соединившего черты мини-саги и психологического романа, — история мальчика, избиваемого и унижаемого отцом. Это роман о ненависти, насилии и любви в польской семье. Автор пытается выявить истоки бытового зла и оценить его страшное воздействие на сознание человека.

Ольга Токарчук — один из любимых авторов современной Польши (причем любимых читателем как элитарным, так и широким). Роман «Бегуны» принес ей самую престижную в стране литературную премию «Нике». «Бегуны» — своего рода литературная монография путешествий по земному шару и человеческому телу, включающая в себя причудливо связанные и в конечном счете образующие единый сюжет новеллы, повести, фрагменты эссе, путевые записи и проч. Это роман о современных кочевниках, которыми являемся мы все. О внутренней тревоге, которая заставляет человека сниматься с насиженного места.

Ольгу Токарчук можно назвать одним из самых любимых авторов современного читателя — как элитарного, так и достаточно широкого. Новый ее роман «Последние истории» (2004) демонстрирует почерк не просто талантливой молодой писательницы, одной из главных надежд «молодой прозы 1990-х годов», но зрелого прозаика. Три женских мира, открывающиеся читателю в трех главах-повестях, объединены не столько родством героинь, сколько одной универсальной проблемой: переживанием смерти — далекой и близкой, чужой и собственной.