Смотрю, слушаю... - [8]
Мужичонка бросил ветку на кучу за плиту, спросил с ярким, горевшим во всем облупленном его лице интересом:
— Не сын?
— Не-э, — пропела тетя Маня, заталкивая уже зажарку, — племянник. Сводной сестры сын.
Мужичонка сразу потерял ко мне интерес. Не ответил на ее благодарность и приглашение, глядел в голубую полынь, моргая от напряженного внимания:
— А писем так и нет?
— Не-э, — пропела тетя Маня, — уже забыла, когда и получала. На свою почту уже квартирантов пустила.
— Да вот я и смотрю: птенцы уже вывелись в ящике! Хы!
Я только теперь разглядел в серой полыни ящик, к которому, с разгорающимся интересом, пробивал дорогу, топча кусты сначала правой ногой, потешный мужичишко, произносивший одно и то же: «Хы!»
— Воробьи оккупировали ящик, — с неизменной иронией говорила тетя Маня, — видят же, без дела стоит. Я не только платы не беру с них, а и подкармливаю. А они вже племя пустили. Вон, желторотые выглядуют. А мамка вон с червяком на тутовник села. Пускай кормит, Терентьевич. Хоть какая живность да будет. Идите лучше, с нами позавтракаете.
Терентьевич постоял, хыкая на разные лады на раскрывавшиеся из отверстия ящика для писем большие желтые рты; потом подступил к крылечку, источенному шашелем и изрезанному ножичками, в углу которого стояло накрытое дощечкой ведро, поднял дощечку и опять накрыл, хыкнув уже по-другому.
— Воды ще богато. Не беспокойтесь, Терентьевич. Идите, посидите с нами. Картошка уже готова.
Мужичонка не ответил и не глянул, когда проходил мимо. Пошел через улицу в устеленный сохнувшим сеном двор, огороженный новым турлучным забором, на который я тоже обратил внимание только теперь: «О! Загородился!»
— Кто это?
— Ты их не знаешь. Новые тут. С Урала. Как? — Она думала, что я задал вопрос, и как бы отвечала: — Да видит же, что стопила плетень. Ловит в Урупе ветки да носит. А воды дети его приносят. — И опять не могла говорить из-за слез и перекашивающих лицо спазм. Опять тряхнула головой, спросила, вытираясь подолом: — А Володька ж как там ваш? — Спросила через минуту, а казалось — прошла вечность.
— Ничего, — отвечал я. Выворачивалось сказать, что «Жигули» купил. Но не сказал.
— А к матери ходит?
Стыдно было врать и стыдно было говорить правду. Я упирался взглядом в землю.
— Последнее время стал приезжать. Когда увидел, что мы уже построились за честную копейку. Гнала совесть, что ли. Даже подарил Вале триста рублей. Но теперь опять не стал ездить. Обозвал меня при Вале ничтожеством, а она выгнала, вместе с подарками, а была в больнице.
— Да мать писала, — сказала тетя Маня, вздохнув. И поглядела на затихшую плиту. Опять вздохнула, покачала головой всему, что творилось с нами и над нами; поглядела на меня: — Ну, пошли, племянник, толчонку есть.
…В хате было так, как было, когда я приезжал сюда еще мальчонкой: и на кухне, и в горнице «святые углы» от потолка до пола завешаны и заставлены большими и маленькими иконами, на кухне пол остался земляной, в большой комнате — застлан толем и покрашен. Та же русская печка, на которой мы когда-то отогревались после «снежков» и на которой спали Миша, Витя, Рая, соседские дети, я. Только теперь печь казалась в несколько раз меньше и навсегда потухшей, хотя явно топилась: на загнетке были свежие угли, а в углу — чаплейка, рогачи, кочережка с неумирающим блеском от ладоней на держаках. Те же лавки, скамейки, табуретки. Только какие-то состарившиеся, почерневшие, как руки наших матерей, и еще больше порезанные и порубленные ножами и резаком: тетя Маня всегда держала кур и какую-либо животину и резала и рубала для них щерицу, лебеду, конский щавель на этих лавках и скамейках, и они хранили в себе былую хозяйскую заботу и былое семейное тепло. Те же казанки, макитры, чашки, только повыщербленные, надтреснутые, скрученные у ободка проволокой, но они хранили в себе былой уют и былую нашу любовь друг к другу, былую семейственность — дух «простонародной старины». Те же деревянные ложки, только страшно уменьшившиеся, почерневшие, потрескавшиеся и сжелобившиеся. Я ел толчонку, имевшую вкус материнских слез и пахнущую ушедшим, оставшимся вот только в ложках и макитрах детством… и почему-то молозивом, которое мы так любили, и потому так ждали, отела. И в хате пахло теплым, но далеким, отсвечивающим на стенах, на которых помнится каждая неровность, на карточках в побитых шашелем рамочках, с которых смотрят молодые отец, мать, дедушки, бабушки, дяди, тети, хуторяне, — все в хате пахло теплым, далеким детством. Тетя Маня, перекрестясь, как мать, ела напротив. Изредка, запоздало и сгорбленно, подхватывалась, семенила угодливо-уважительно, с просыпающейся радостью, перекачиваясь на согнутых ногах в черных шишаках и багрово-синих узлах вен, по земляному полу за какой-нибудь тарелкой или кружкой, которую я давно уже взял. Забывала есть и капала на меня разлетающимися восковыми слезами.
— Ой, не обижайте, не обижайте, хлопцы, мать! Не забывайте, не забывайте, хлопцы, мать, бо это плохо вам обернется.
Надо мною слезами блескали тяжкие слова тети Мани. Но открывшаяся новь оглушила меня, светло отодвинула от всего тотчас, как я поднялся на гору. Кирпичные строения и подъемные краны над зеленью садов и огородов Труболета я увидел, как только вышел из бурьянов Майского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
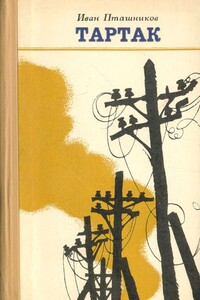
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эпизод из жизни северных рыбаков в трудное военное время. Мужиков война выкосила, женщины на работе старятся-убиваются, старухи — возле детей… Каждый человек — на вес золота. Повествование вращается вокруг чая, которого нынешние поколения молодежи, увы, не знают — того неподдельного и драгоценного напитка, витаминного, ароматного, которого было вдосталь в советское время. Рассказано о значении для нас целебного чая, отобранного теперь и замененного неведомыми наборами сухих бурьянов да сорняков. Кто не понимает, что такое беда и нужда, что такое последняя степень напряжения сил для выживания, — прочтите этот рассказ. Рассказ опубликован в журнале «Наш современник» за 1975 год, № 4.

В книгу вошли роман «Воскрешение из мертвых» и повесть «Белые шары, черные шары». Роман посвящен одной из актуальнейших проблем нашего времени — проблеме алкоголизма и борьбе с ним. В центре повести — судьба ученых-биологов. Это повесть о выборе жизненной позиции, о том, как дорого человек платит за бескомпромиссность, отстаивая свое человеческое достоинство.

Новый роман грузинского прозаика Левана Хаиндрава является продолжением его романа «Отчий дом»: здесь тот же главный герой и прежнее место действия — центры русской послереволюционной эмиграции в Китае. Каждая из трех частей романа раскрывает внутренний мир грузинского юноши, который постепенно, через мучительные поиски приходит к убеждению, что человек без родины — ничто.
