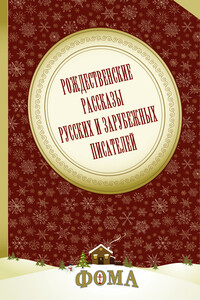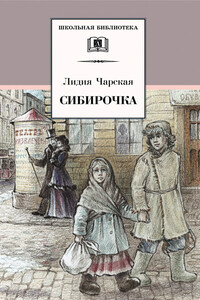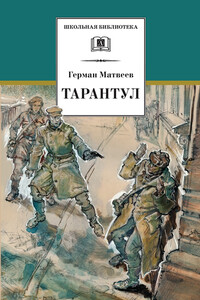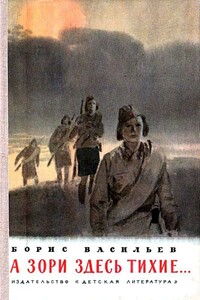В этот день произошло сражение, знаменитое Бородинское сражение, данное русским гением другому гению, не уступавшему ему по силе своей гениальности. Армия Кутузова сошлась с армией Наполеона под Бородином.
На заре прогрохотала первая пушка. Ей ответили разом несколько из ее железных сестер – и с этой минуты день как бы затмился в облаке порохового дыма, и наступила ночь, адская ночь, бесконечная ночь битвы, смерти, всеобщего уничтожения.
Эскадрон Подъямпольского был выстроен неподалеку от флешей[70] Багратиона, на которых сосредоточилось исключительное внимание французов. И эти флеши несколько раз переходили из рук в руки. То французы, налетая вихрем и обсыпая градом пуль и картечи доблестных защитников их, вырывали флеши из рук русских; то русские со штыками наперевес возвращали флеши назад, подставляя мужественные груди ударам неприятеля. То русские, то французские знамена, порванные чуть не в клочья, возвышались, чередуясь, над укреплением.
И на Семеновском редуте, и на редуте Раевского – всюду шла та же штыковая кровавая игра, и груда окровавленных тел страшным кольцом окружала редуты…
В разгаре боя, когда Багратионовские флеши в который уже раз переходили обратно в руки русских, отчаянный крик пронесся по фронту:
– Багратион ранен!
Надя вздрогнула и перекрестилась. Перед ней мелькнуло восточное лицо командующего второй армией, милое лицо, столь любимое и понятное каждому солдату.
Ей припомнилось, как пять лет тому назад в такой же бой, только разве менее ожесточенный и кровопролитный, он, этот самый Багратион, герой и любимец армии, шел на верную смерть, ведя атаку на полях Фридланда. Но тогда пули как бы щадили героя, а теперь… Теперь время его пришло…
Надя видела, как на флешах Багратиона произошло легкое смятение, как по направлению сельца Тарутина, где находился наблюдавший за битвой Кутузов, поскакал адъютант и как солдаты, подняв с земли чье-то окровавленное и бессильно разметавшееся тело, понесли это тело за фланг.
Большего она не могла различить и увидеть, так как в тот же миг чей-то охрипший голос, в котором Надя с трудом узнала голос Подъямпольского, скомандовал атаку, и они понеслись куда-то. Куда – Надя сама не могла понять, так как черный густой дым надвинулся навстречу сплошной стеной и нестерпимо ел ей глаза. Потом что-то грохнуло, что-то ухнуло неподалеку, что-то круглое, страшное и странное подлетело с шипением, и целый дождь сверкающих осколков осыпал ряды атакующих улан.
«Гранаты!» – вихрем пронеслось в напряженном мозгу девушки, и перед ее глазами четко вырисовалось лицо и фигура Линдорского, склоняющегося в ее сторону с седла.
– Вы ранены, ротмистр? – вскричала она в испуге, удивленная и тому, что Линдорский очутился в их эскадроне, и тому, что, рассыпаясь, груда осколков не долетела до нее.
А позади уже несся второй эскадрон, и вахмистр на лету подхватил склонившегося в стременах Линдорского. Надя сжала ногами бока Зеланта и без сознания, без мысли, понеслась вперед, увлеченная общим потоком атакующих.
Странная мысль охватила девушку. Ей хотелось теперь только одного: увидеть то, на что устремлялось их течение, – видеть врага и лицом к лицу встретиться с ним. Но черный дым по-прежнему слепил и ел глаза, отделяя их от неприятеля своей непроницаемой волнующейся стеною.
И бешенство, непонятное, злобное бешенство овладело Надей.
«Увидеть! Схватиться и отомстить! Отомстить за смерть Торнези, Линдорского, за рану Багратиона! – выстукивало ее сердце, разжигая и без того душившую ее злобу. – Зося! Бедная Зося! Рано же ты останешься вдовою!» – добавляло это неугомонное, озверевшее в бою сердце, и Надя неслась вперед, в самую гущу черного облака, где уже слышался звон и лязг сабель и стоны умирающих.
Как раз в это время с редута Раевского послышалось громовое «ура!». Это нашим удалось отбить новый натиск французов.
«Слава Богу! – промелькнуло в мыслях Нади. – Слава те…»
Она не додумала. Какой-то тяжелый шар зашуршал по земле уже совсем близко от нее. Зелант метнулся в сторону, и в тот же миг что-то острое, мучительное и горячее, как огонь, врезалось в ногу Нади пониже колена.
Девушка зашаталась в седле и потеряла сознание.
Это был чудесный сон, похожий на сказку… Надя, но не Надя улан-литовец, а совсем юная девочка Надя плывет по Удаю…
Удай так и сверкает свежей весенней синевою. Такой же синевой блещут и небо, и преображенные волшебником маем зелень и кусты…
Этот свежий весенний блеск, эта роскошь и обилие красок так радует и ласкает взоры…
А на берегу сидят свои: отец, Клена, Василий… Только мамы нету. Где же мама? Почему она не пришла встретить ее, Надю, так долго не возвращавшуюся домой? И почему они здесь, на Удае, в Кобелякском повете бабушки Александрович, а не дома, на Каме, в их милом Сарапульском захолустье?… Надя теперь уже будто не прежняя дикарка Надя. Быстрый взор ее стал задумчивее и глубже, а на детской груди сверкает беленький крестик, крестик отличия героев. И папа смотрит с берега на нее, Надю, и на этот крестик, смотрит и улыбается, а по лицу его текут слезы… А Удай делается все шире и шире и превращается в Каму, широкую синеглазую Каму, плавно текущую в крутых берегах. По одному берегу идут бурлаки и поют. Что поют – не разобрать. Один из них поет громче других, и сам он мало похож на остальных. Это не простой бурлак. Его лицо, его черные глаза и смоляные кудри Надя узнает из тысячи других. Это Саша… Саша Кириак, милый черноглазый Саша… И он поет или говорит… Нет, говорит… Как он очутился здесь, на Каме? Зачем идет он с другими бурлаками, когда его место не здесь, а в далеких Мотовилах, под солнцем залитой Полтавой? И она кричит Саше, кричит в сторону, откуда надвигаются с песней бурлаки… Вдруг берег и бурлаки – все это разом приближается к Наде. Нет, не бурлаки, а Саша, один только Саша…