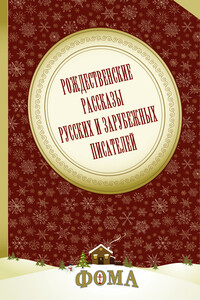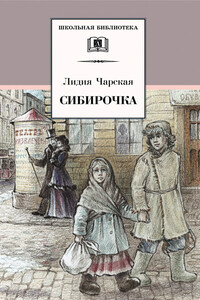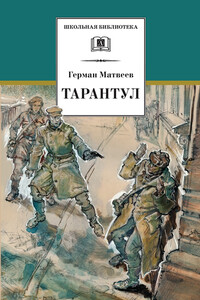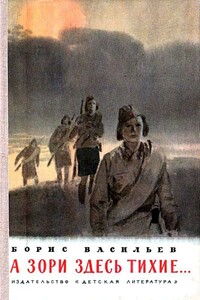– Я русский дворянин, господин полковник, – с гордым достоинством произнесла девушка, – а не беглый казак, как вы думаете… Я нигде еще никогда не служил, клянусь моей честью! Но я пришел просить у вас этой милости, господин полковник…
– То есть какой милости? О чем ты… вы просите, молодой человек?
– Я прошу весьма немного, господин полковник. Позвольте мне дойти с вашим полком до места, где квартируют регулярные войска, чтобы поступить в один из них товарищем[16].
И, говоря это, Надя трепетала в ожидании ответа. Бедной девочке было бы очень трудно, почти невозможно пуститься одной в такое трудное путешествие. Местность кишела кругом бродячими киргизскими шайками, да и Алкид ее нуждался в хорошем стойле и, несмотря на всю свою выносливость, требовал регулярного за собою ухода.
Полковник долго молчал, покручивая свой сивый ус, не подозревая, как в эту минуту тревожно, болезненно сжимается под грубым сукном казачьего чекменя бедное маленькое девичье сердечко.
Наконец он пристально взглянул в глаза Нади своим острым, прозорливым взглядом и спросил:
– Но почему же, юноша, ваши родители не отвезли вас в полк лично, а пустили скитаться одного по лесным трущобам, такого юного, почти ребенка?
При этих словах смуглое личико Нади вспыхнуло ярким румянцем. Между всеми достоинствами девушки было одно, чуть ли не самое крупное из всех, которое в настоящую минуту значительно затрудняло ее положение: она не умела лгать. И теперь взгляд ее, помимо воли, потупился в землю под пристальным взором полковника, и она нервно теребила бахрому своего алого форменного пояса.
Это смущение снова неприятно подействовало на присутствующих здесь офицеров. Полковник переглянулся с есаулом. Офицеры с нескрываемой подозрительностью смотрели на странного мальчика со смущенным лицом, очевидно скрывающего какую-то тайну.
И снова прежняя догадка мелькнула в голове Борисова: и в самом деле, не беглый ли казак перед ними? Или, еще хуже того, какой-нибудь юный преступник, ушедший из тюрьмы?
И, не колеблясь больше, старый служака произнес вслух:
– Но послушайте, мальчуган, чем докажете вы искренность своих слов?
– О! Вы все еще не верите мне, полковник! – с искренним порывом вскричала Надя. – Но, клянусь вам, я не то, что вы думаете. Моя совесть чиста. Я ничего не сделал дурного людям, ничего дурного или бесчестного!.. Ну… да… конечно, ничего дурного, – в смущении замялась она, – если не считать бесчестным то, что я тайком ушел из родительского дома, так как отец и мать слышать не хотели о том, чтобы я поступил в полк. О, господин полковник! Умоляю вас, помогите мне! Возьмите меня с собою! Я не долго буду докучать вам своим обществом! Мне бы только добраться до регулярных войск. Прошу вас, господин полковник!
Голос Нади дрожал и обрывался от волнения. Ее смуглое лицо дышало такой неподдельной искренностью, а глаза, полные слез, с такой мольбой впились взглядом в мужественное лицо старого служаки, что не поверить ей уже было невозможно.
И полковник поверил. Поверили и офицеры.
– А мальчик-то, клянусь честью, говорит правду! – с суровой ласковостью произнес седовласый есаул, окидывая ободряющим взглядом юного казачка.
– Ты думаешь, Ермолай Селифонтыч? – живо обратился к нему Борисов.
– Ах, конечно, правду! – неожиданно сорвался с места молоденький хорунжий.
Он все это время сидел как на горячих угольях. Этот смугленький мальчик в казачьем чекмене сразу победил его своим открытым, честным лицом. Этот смугленький мальчик, по мнению Миши Матвейко (так звали семнадцатилетнего хорунжего), не мог лгать. Так чист был темный взгляд его красивых глаз, так искренен и убедителен звук его голоса, что молоденький хорунжий, помимо воли, заговорил, обращаясь к полковнику, своим молодым звонким голосом, полным мольбы и волнения:
– О, господин полковник, возьмите его! Ради Бога, возьмите! Ведь одному ему не добраться до войск… И наконец, если вы не верите ему, господин полковник, то дайте мне его на поруки. Я вам головой ручаюсь, что это один из честнейших малых, какого я когда-либо встречал!
– Ого! – весело расхохотался полковник. – Нет, наш Миша-то каков, а? – подмигивая на расходившегося офицерика его старшим товарищам, говорил он. – Ну, будь по-твоему, Миша.
– Вы слышали? – обратился уже серьезно полковник к Наде. – Вы слышали вашего ходатая? Оправдайте же его и наше доверие, молодой человек! А я… беру вас с собою.
– О, вы останетесь мною довольны, господин полковник! – поспешила ответить Надя, с благодарностью взглянув в сторону юного хорунжего, в котором разом почувствовала будущего приятеля и друга.
– Ну а теперь сообщите нам ваше имя, молодой человек! – произнес уже много ласковее, очевидно, не колебавшийся более в ее искренности полковник.
Надя вздрогнула. Сказать имя – значило бы открыться во всем. Ведь легко могло случиться, что кто-либо из окружающих ее офицеров мог знать ее семью. Тогда надо было бы сказать «прости» всему: и смелому замыслу, и новой доле, и вольной жизни, которая открывалась перед нею во всей ее привлекательной свободе… Ведь узнай кто-нибудь из них, что она девушка, ее без всяких разговоров вернут домой, и тогда снова прежняя ненавистная жизнь с плетением кружев с утра до вечера, с мелкими хозяйственными заботами и со всем прочим, что так глубоко претит ее пылкой и вольной натуре, поглотит ее, затянет в свою невылазную тину… И потому голос ее заметно дрожал, когда, смущенно окинув глазами все общество, она произнесла робко, чуть слышно: