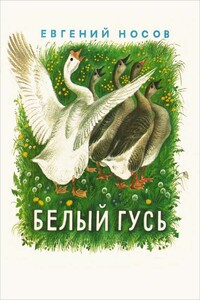Слово о родине - [5]
Е. Носов задел в читателе самые подспудные чувства, связанные с войной, чувства, которые крайне редко посещают ныне человека, и необходимо какое-то тихое и светлое потрясение души, чтобы эти забытые чувства явились к жизни.
Художник непосредственного и искреннего самовыражения, здорового, народного, реалистического интеллекта, никогда не переходящего в заумь и грубый натурализм, Е. Носов с первых же фраз овладевает настроением читателя, пробуждая в нем остроту зрения и слуха, обоняния, осязания и вкуса, склоняя его к поэтическому воображению, к умению по части представить целое: по сказанному слову — характер, по детали — судьбу. Отсюда предельный лаконизм письма — очень короткая повесть и совсем небольшой рассказ, в которых, верно, и словам тесно, и чувствам и мыслям просторно — мудрость пословицы и поговорки, притчи и сказки, народного искусства.
В одном из рассказов Е. Носова художнику долго не удается написать портрет председателя колхоза Зотова. Все схвачено вроде бы точно — и глаза, и нос, и подбородок, а Зотова нет: смотрит с полотна какое-то надменное лицо непонятных занятий — чиновник не чиновник, генерал не генерал. Так и не добившись желаемого, художник оставил лицо и стал живописать руки. «Я увлекся, описывая эти терпеливые и добрые руки, и видел, как от их появления на холсте постепенно оживало и как-то добрело суровое зотовское лицо, как эти руки делали Зотова — Зотовым» («Портрет»). Постигнуть по «малому изображению» большую действительность и дать почувствовать это читателю — один из существенных принципов в творческой работе Е. Носова.
Повесть «Домой, за матерью» заканчивается немногословным описанием орловского вокзала: пустой зал, бабы, моющие полы, Васюкеев в дверях — он оглядит помещение и направится к выходу искать такси на Кроны. Какая мать у Васюкеева и что за судьба ожидает ее у сына с невесткой — самое важное, то, ради чего и написано произведение, останется за пределами повествования. И мы, добравшись в чтении до последнего абзаца, неожиданно для себя, в полном согласии с автором, обнаруживаем: действительно, продолжать повесть дальше — значит повторяться. В самом деле, разве одиссея по сынам-дочерям случайной попутчицы-старушки Васюкеева не намекает нам на будущую судьбу его матери?
Чтобы стало ясно, что драматическая история попутчицы повторится с матерью Васюкеева, писатель использует будто бы незначительную, лаконичную, но очень емкую деталь. Когда Васюкеев вваливается в полупустое купе и, обвыкаясь, осматривается, то замечает на нижней полке маленькую старушку — глаза его, не останавливаясь на лице, скользят по ее одежде, и в полутьме он отчетливо видит черные валенки с подшитой побелевшей дратвой подошвой, а на подошве — прилипшую блестящую фольгу от эскимо. И в конце повести, когда будет он ствять в дверях орловского вокзала, — перед тем как пойти на остановку такси — снова напоследок увидит он не лицо старушки, а ее валенки, выставленные вперед: «блескучая фольга от эскимо всё ещё держалась на подошве» одного из них. Нечто неотделимое от основательности, жизненного уюта и тепла — валенки и прилипшая к подошве пустая фольга, — вот деталь, которая соединила Васюкеева и драму старушки и подсказала будущую судьбу матери Васюкеева.
Повесть «И уплывают пароходы, и остаются берега» при беглом чтении может показаться несколько расплывчатой по замыслу и не совсем ясной по авторской позиции в споре ее героев о культуре и истории России. Писатель и в самом деле прямо не вмешивается в разговоры между Несветским и Надцатым, разве что снизит до глупости авторитетность их интеллектуальных доводов восклицаниями: «Возьми хотя бы храм святого Марка в Венеции. Или Петра и Павла в Риме». Савойя вроде тоже не порука писателю в решении задачи: слишком уж он кроток, уступчив и подобострастен… Впрочем, все это лежит на поверхности и сразу же бросается в глаза читателю. Произведение же это с особинкой, себе на уме — авторская точка зрения, пусть скрытая, высказанная не прямо, окольными путями, проведена здесь четко.
Едва спор достигает апогея, Гойя Надцатый, разобиженный, уходит. «Несветский засовывает руки в брючные карманы и возбужденно, с победным чувством петуха, только что расклевавшего голову своему хилому противнику, прохаживается вдоль стола». В нем вызревают доводы, подводящие итог длительному и запальчивому разговору о культуре и истории России, и он наконец решается, рассчитывая на убийственную силу удара: «Все эти иконки, лапти, Иваны Калиты, протопопы Аввакумы…» Голос полнится мощью, напряжение растет, в воздухе носится наслаждение полной победой, и вдруг Шурочка кричит Несветскому: «У тебя в волосах паук!.. Несветский, смешавшись, отряхивает волосы, ломая свой аккуратно расчесанный пробор… оглядывает пиджак и щелчком сшибает что-то с обшлага.
— Так вот… Надо смотреть не назад, а вперед. Если хочешь знать, атомный реактор — вот мой Рублев!.. Тут мы действительно можем кое-кому утереть нос и оставить после себя настоящие памятники!»
Конечно, «убить паука — сорок грехов долой», но приведенная пословица — одно из немногих недобрых суждений о пауке. Больше восхищения его мужеством и сметкой: «Один семерых полонил», «А кто ткет без станка и рук?» И совсем уж кстати народные сказочки про мизгиря, в которых тот предстает в образе удалого доброго молодца, народного защитника: «В нынешние времена проявилась нова ромода (суета. — В. В.): комары, мухи летали, в кринках молоко болтали. Мизгирь на то осердился, на спину ложился; наставил мережки на все пути-дорожки».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
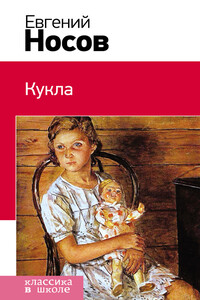
Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.В книгу включены рассказы Е. Носова, которые изучают в 7-м классе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».