Слова - [4]
По совести сказать, старик несколько пересаливал по части возвышенного. Он был сыном XIX века и, как многие, как сам Виктор Гюго, мнил себя Виктором Гюго. На мой взгляд, этот красивый длиннобородый старик, всегда пребывавший в ожидании очередного театрального эффекта, точно алкоголик в ожидании очередной выпивки, пал жертвой двух новейших открытий: фотоискусства и «искусства быть дедушкой»[1]. На его счастье и беду, он был фотогеничен; наш дом был наводнен его изображениями. Моментальных снимков в ту пору еще не делали, и поэтому дед пристрастился к позам и живым картинам. Под любым предлогом он вдруг останавливался, эффектно замирал, каменел; он обожал эти краткие мгновения вечности, когда он превращался в памятник самому себе. Из-за его пристрастия к живым картинам он и сохранился у меня в памяти только как застывшая проекция волшебного фонаря. Опушка леса, я сижу на поваленном стволе, мне пять лет; на Шарле Швейцере панама, кремовый в черную полоску костюм из фланели, белый пикейный жилет, перерезанный цепочкой от часов, на шнурке свисает пенсне; дед склонился ко мне, воздел палец с золотым перстнем и вещает. Вокруг темно, сыро, и только его борода лучится: дед носит свой нимб под подбородком. Не знаю, о чем он говорит. Я так рьяно старался слушать, что не слышал ни слова. Полагаю, что этот старый республиканец времен Империи наставлял меня в моих обязанностях гражданина и излагал буржуазную историю: жили-были в давние времена короли и императоры, это были гадкие люди, их прогнали, все идет к лучшему в этом лучшем из миров.
Вечерами, встречая деда на дороге, мы тотчас узнавали его в толпе пассажиров, высыпавших из фуникулера, по его исполинскому росту и осанке танцмейстера. Заметив нас еще издали, он мгновенно, повинуясь указаниям невидимого фотографа. «становился в позицию»: борода по ветру, плечи расправлены, пятки вместе, носки врозь, грудь колесом, объятия широко раскрыты. По этому знаку я замирал, чуть наклонившись вперед, — бегун на старте, птичка, которая вот-вот вылетит из аппарата. Несколько мгновений мы пребывали в такой позе — прелестная группа саксонского фарфора — потом я бросался вперед — мальчик с цветами, фруктами и счастьем деда, — притворно задыхаясь, утыкался носом в его колени, а он, подбросив меня на вытянутых руках, прижимал к сердцу, шепча: «Сокровище мое!» Такова была вторая фигура танца, пользовавшаяся громадным успехом у прохожих. Мы вообще разыгрывали нескончаемое представление из сотни разнообразных скетчей: тут были и флирт, и минутные размолвки, и добродушные поддразнивания, и ласковая воркотня, и любовная досада, и нежное шушуканье, и страсть. Мы изобретали препоны на пути нашей любви, чтобы насладиться их преодолением. На меня временами находило упрямство, но даже в моих капризах сквозила редкостная чувствительность: он, как подобает деду, грешил благородным и простодушным тщеславием, слепотой и предосудительным потворством по рецепту Гюго. Посади меня мать и бабушка на хлеб и воду, дед таскал бы мне сласти, но запуганным женщинам это и в голову не приходило. Впрочем, я был пай-мальчик; моя роль мне так нравилась, что я и не собирался из нее выходить. В самом деле, поспешное исчезновение отца наградило меня весьма ослабленным «эдиповым комплексом»: никаких «сверх-я» и вдобавок ни малейшей агрессивности. Мать всецело принадлежала мне, никто не оспаривал у меня безмятежного обладания ею; я не знал, что такое насилие и ненависть, был избавлен от горького опыта ревности. Действительность, на острые углы которой мне ни разу не пришлось наткнуться, вначале предстала передо мной улыбчивой бесплотностью. Против кого или чего мне было бунтовать? Ничья прихоть ни разу не пыталась диктовать мне правила поведения.
Я любезно позволяю, чтобы меня обували и впускали мне капли в нос, причесывали и умывали, одевали и раздевали, холили и лелеяли. Моя самая любимая забава — разыгрывать пай-мальчика. Я не плачу, почти не смеюсь, не шумлю; когда мне было четыре года, меня застигли за попыткой посолить варенье — из любви к науке, полагаю, а не по злому умыслу. Так или иначе, никаких других проказ моя память не сохранила. По воскресеньям наши дамы иногда ходят к мессе послушать хорошую музыку, знаменитого органиста. Ни та, ни другая обрядов не соблюдают, но истовость верующих располагает их к музыкальному экстазу: пока звучит токката, они веруют в бога. Для меня нет ничего слаще этих минут духовного воспарения. Окружающие клюют носом — самое время показать, на что я способен: «упершись коленами в скамеечку, я обращаюсь в статую, боже сохрани шевельнуть хотя бы мизинцем; я смотрю прямо перед собой, не мигая, пока по щекам не заструятся слезы. Конечно, я веду титаническую борьбу с мурашками в ногах, но я уверен в победе и настолько преисполнен сознания своей силы, что бесстрашно возбуждаю в себе самые греховные искушения, дабы вкусить сладость торжества над ними. А что, если я вдруг вскочу и заору: „Таррарабум!“ А что, если я вскарабкаюсь на колонну и сделаю пипи в кропильницу? Эти чудовищные видения придают особую цену похвалам матери после службы. Впрочем, я лгу самому себе — притворяюсь, будто мне грозит опасность, чтобы приумножить свою славу. На самом деле никакие соблазны не способны вскружить мне голову: слишком я боюсь скандала. Уж если я намерен повергать окружающих в изумление, то только своими добродетелями. Легкость, с какой я одерживаю эти победы, доказывает, что у меня хорошие задатки. Стоит мне внять своему внутреннему голосу, меня осыпают похвалами. Дурные желания и мысли, если уж они у меня появляются, приходят извне; едва закравшись в мою душу, они хиреют и чахнут — я неблагодарная почва для греха. Добродетельный из любви к рисовке, я при этом не лезу вон из кожи, не насилую себя — я творю. Я наслаждаюсь царственной свободой актера, который, держа публику в напряжении, шлифует свою роль. Меня обожают — стало быть, я достоин обожания. Вполне понятно — ведь мир устроен превосходно. Мне говорят, что я хорош собой, и я этому верю. С некоторых пор у меня на правом глазу бельмо, впоследствии я буду косить и окривею, но пока это еще незаметно. Меня то и дело фотографируют, и мать ретуширует снимки цветными карандашами. Одна из фотографий сохранилась: я на ней белокур, розов, кудряв, щеки пухлые, во взгляде ласковая почтительность к установленному миропорядку, в надутых губках затаенная наглость — я себе цену знаю.
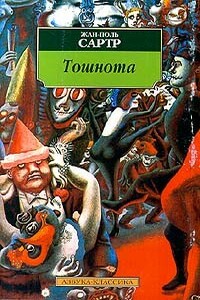
«Тошнота» – первый роман Ж.-П.Сартра, крупнейшего французского писателя и философа XX века. Он явился своего рода подступом к созданию экзистенционалистской теории с характерными для этой философии темами одиночества, поиском абсолютной свободы и разумных оснований в хаосе абсурда. Это повествование о нескольких днях жизни Антуана Рокантена, написанное в форме дневниковых записей, пронизано острым ощущением абсурдности жизни.
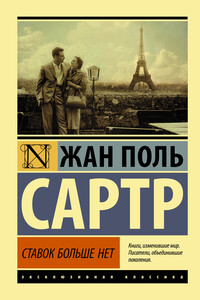
Роман-пьеса «Ставок больше нет» был написан Сартром еще в 1943 году, но опубликован только по окончании войны, в 1947 году. В длинной очереди в кабинет, где решаются в загробном мире посмертные судьбы, сталкиваются двое: прекрасная женщина, отравленная мужем ради наследства, и молодой революционер, застреленный предателем. Сталкиваются, начинают говорить, чтобы избавиться от скуки ожидания, и… успевают полюбить друг друга настолько сильно, что неожиданно получают второй шанс на возвращение в мир живых, ведь в бумаги «небесной бюрократии» вкралась ошибка – эти двое, предназначенные друг для друга, так и не встретились при жизни. Но есть условие – за одни лишь сутки влюбленные должны найти друг друга на земле, иначе они вернутся в загробный мир уже навеки…
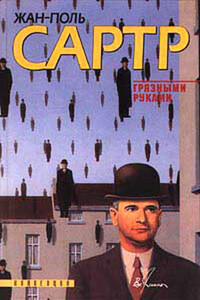
В первой, журнальной, публикации пьеса имела заголовок «Другие». Именно в этом произведении Сартр сказал: «Ад — это другие».На этот раз притча черпает в мифологии не какой-то один эпизод, а самую исходную посылку — дело происходит в аду. Сартровский ад, впрочем, совсем не похож на христианский: здание с бесконечным рядом камер для пыток, ни чертей, ни раскаленных сковородок, ни прочих ужасов. Каждая из комнат — всего-навсего банальный гостиничный номер с бронзовыми подсвечниками на камине и тремя разноцветными диванчиками по стенкам.
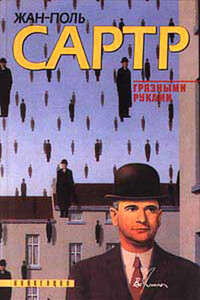
За городскими воротами, зашагав прочь от Аргоса, странствующий рыцарь свободы Орест рано или поздно не преминет заметить, что воспоминание о прикованных к нему взорах соотечественников мало-помалу меркнет. И тогда на него снова нахлынет тоска: он не захотел отвердеть в зеркалах их глаз, слиться с делом освобождения родного города, но без этих глаз вокруг ему негде убедиться, что он есть, что он не «отсутствие», не паутинка, не бесплотная тень. «Мухи» приоткрывали дверь в трагическую святая святых сартровской свободы: раз она на первых порах не столько служение и переделка жизни, сколько самоутверждение и пример, ее нет без зрителя, без взирающих на нее других.
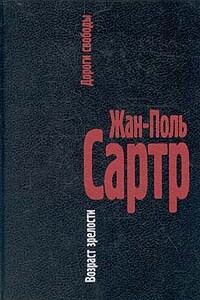
"Дороги свободы" (1945-1949) - незавершенная тетралогия Сартра, это "Возраст зрелости", "Отсрочка", "Смерть в душе". Отрывки неоконченного четвертого тома были опубликованы в журнале "Тан модерн" в 1949 г. В первых двух романах дается картина предвоенной Франции, в третьем описывается поражение 1940 г. и начало Сопротивления. Основные положения экзистенциалистской философии Сартра, прежде всего его учение о свободе, подлинности и неподлинности человеческого существования, воплощаются в характере и поступках основных героев тетралогии. .
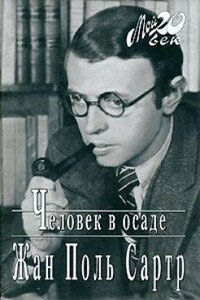
Книга «Экзистенциализм — это гуманизм» впервые была издана во Франции в 1946 г. и с тех пор выдержала несколько изданий. Она знакомит читателя в популярной форме с основными положениями философии экзистенциализма и, в частности, с мировоззрением самого Сартра.
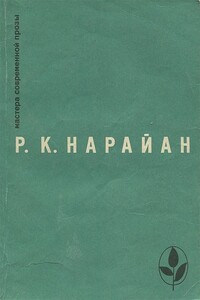
В книге собраны статьи, эссе и художественная проза национального писателя Индии Нарайана. Произведения Нарайана поражают своеобразным сочетанием историчности и современности, глубиной художественного перевоплощения.В романе «Продавец сладостей» с присущим писателю юмором показаны застойный мир индийской провинции и неоправданное прожектерство тех, кто видит спасение Индии в безоглядной «американизации». СОДЕРЖАНИЕ: _____________Н. Демурова. ПредисловиеПРОДАВЕЦ СЛАДОСТЕЙ (роман, перевод Н.

«Вот глупости говорят, что писать теперь нельзя!.. Сделайте милость, сколько угодно, и в стихах и в прозе!Конечно, зачем же непременно трогать статских советников?! Ах, природа так обширна!..Я решил завести новый род обличительной литературы… Я им докажу!.. Я буду обличать природу, животных, насекомых, растения, рыб и свиней…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кнут Гамсун (настоящая фамилия — Педерсен) родился 4 августа 1859 года, на севере Норвегии, в местечке Лом в Гюдсбранндале, в семье сельского портного. В юности учился на сапожника, с 14 лет вел скитальческую жизнь. лауреат Нобелевской премии (1920).Имел исключительную популярность в России в предреволюционные годы. Задолго до пособничества нацистам (за что был судим у себя в Норвегии).

(Genlis), Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (Ducrest de Saint-Aubin; 25.I.1746, Шансери, близ Отёна, — 31.XII.1830, Париж), графиня, — франц. писательница. Род. в знатной, но обедневшей семье. В 1762 вышла замуж за графа де Жанлис. Воспитывала детей герцога Орлеанского, для к-рых написала неск. дет. книг: «Воспитательный театр» («Théâtre d'éducation», 1780), «Адель и Теодор» («Adegrave;le et Théodore», 1782, рус. пер. 1791), «Вечера в замке» («Les veillées du château», 1784). После казни мужа по приговору революц. трибунала (1793) Ж.
