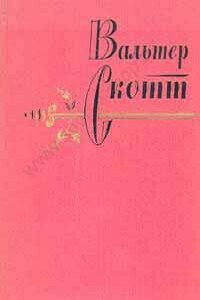…Писарю нужен
год моего рожденья,
чтоб в роту меня зачислить.
Топчусь у стола.
«В Куликовскую сечу
мне двадцать исполнилось.
Вот и считай», — говорю ему.
Писарь заерзал на стуле.
«Побаски-то брось.
Ни к чему они».
Я продолжаю спокойно:
«С Андреем Рублевым
(слыхал о таком?)
одногодки мы.
На Куликовом-то поле он не был,
соборы расписывал…»
Писарь метнулся со стула,
попятился к двери.
Вошел комиссар.
Не по кожаной куртке,
не по звездочке на фуражке —
по доброму умному взгляду
я в нем угадал комиссара.
Тянусь по привычке.
Но и ему повторяю то же.
«Хорошо, — говорит комиссар,—
так и запишем.
Годков лишковато тебе, но неважно,
мы, говорит, их на всех
в батальоне поделим». И рассмеялся,
молодой, белозубый.
«А землю пахать, — он добавил, уже посерьезнев,
ты все-таки будешь.
Повоевать нам придется еще, и немало,
но войны исчезнут, а землю пахать
люди вечно будут.
Не знаю, — сказал он,—
отлита она иль еще не отлита,
последняя пуля
для войны последней,
но пусть и она, пролетая,
тебя не заденет,
чтоб ты еще долго
рассказывал жизнь свою людям,
чтоб мир на земле
прославлять они не разучились.
Да вот и поэт,
пусть он в книгу уткнулся,
спроси: то же самое скажет».
Я вздрогнул, глаза подымаю.
Но книгу не отодвинул.
На толстые корки
осели века.
Обуглены буквы пожарами,
слезами размыты.
Страницу иную
переворачиваю едва:
так тяжела она,
истоптанная войнами…