Скоморохи - [13]
Ждан дожидался, пока в поварне не поспеют хлебы. Вытащив хлебы из печи, присел на крылечке. Солнце, догорая, золотило верхушки елей, подступивших вплотную к обительскому тыну, где-то в бору постукивал дятел, жалобно попискивала какая-то пичужка. Тянуло вечерней лесной сыростью. От тишины и одинокого попискивания птицы у Ждана защемило сердце. Подумал о том, что сегодня канун Купалы, вспомнил, как праздновали купальскую ночь в Суходреве. Отец дважды брал его на купальские игрища.
Сегодня, как завечереет, потянется из Можая к Горбатой могиле разный люд, сойдутся и посадские мужики и подгородные пахари, станут жечь купальские огни и плясать и песни петь. Кому песни, а кому стоять с монахами всенощную службу. Служба под иванов день — рождество пророка Иоанна — длинная, в монастырской церквушке темно, свечки чуть теплятся, лампадка перед образом тлеет, от скудного света лики угодников еле видны, и чудятся не угодники, а хмурые мертвецы обступили и глядят со стен деревянными глазами, голос у игумена Дионисия тихий, загробный и пока благословит иноков идти по кельям, ноги окаменеют.
От этих мыслей на сердце стало совсем тошно. Поглядеть бы хоть одним глазом на купальские игрища. Да разве можно? Захарий только одно и твердит: «В миру бес, а на мирских игрищах бесов легионы». До Горбатой могилы рукой подать, можно было бы, пока монахи от сна встанут, и туда и обратно поспеть, никто и знать не будет. Другое страшно — одним глазом на игрища поглядишь, а на том свете станут потом черти горячими крючьями мясо с костей драть, как в церковном притворе намалевано.
Ждан передернул плечами, показалось — уже впиваются в кожу острые крючья.
Из лесу наползали медленные сумерки, подступали к обители. Дятел не стучал больше, не слышно стало и пичужки. Сильнее потянуло лесной сыростью. На пустом монастырском дворе тишина. Ждану иноческие келейки показались расставленными вокруг церквушки гробами. Не выдержал, вскочил на ноги, шагнул к Захарьевой избушке. Дверь в келью была приоткрыта. Игумен Дионисий строго-настрого наказывал инокам двери в кельях держать прикрытыми плотно, щелей не оставлять, чтобы грехом не вскочил в иноческое жилье бес.
Ждан постоял на пороге. За дверью храпел инок Захарий, и от храпа его гудела крохотная избушка. Захарий был на сон крепок, на какой бок ложился, с того вставал. Ждан знал — проснется инок не скоро. Постоял еще, решившись наконец, махнул рукой: «Будь, что будет». Отодвигать засов у фортки не стал, подтянувшись на руках, перемахнул прямо через тын, зашагал по едва видной в лесном мраке знакомой тропинке. Шел он торопливо и, пока выбрался на опушку, вспотел.
На лесной опушке Ждан остановился перевести дух. В небе еще горела заря, а Ивановы червячки уже зажигали в траве свои зеленоватые фонарики. Пахло прохладно мятой и терпко горюн-травой. Вдали, у поросшего кустарниками невысокого холма — Горбатой могилы — смутно белели рубахи мужиков. Ждан подошел ближе. Вокруг толстой, в обхват, купальской березы тесно сидели старики. Один, волосатый, как лешак, притиснув коленями полено и отставив далеко локти, вертел сук, обвитый смолистой травой. Старики тихими голосами тянули песню о купальском огне:
Дед, вертевший сук, вздохнул, откинул упавшие на лоб космы, быстрее задвигал локтями. Запахло дымом, на остром конце сука блеснул огонек, разгораясь, пополз вверх. Старики поднялись, раскачиваясь с ноги на ногу, затянули громче скрипучими голосами:
Толпившийся у березы люд подхватил припев. Пук травы, обвивавший сук, горел ровно, желтым огнем. Это было хорошей приметой. Дед сунул огонь в кучу сухого хвороста, присел на корточки, замахал колпаком, раздувая пламя.
Толпа вдруг задвигалась, заговорила. Толкаясь, люди полезли к огню с лучинами, прихватив купальского огня, несли лучины к охапкам хвороста. По всему лугу зажигались купальские костры. Костры еще не разгорелись как надо, а старики уже тянули ковшики к жбанам, полным меда и пива, и начинали рассказывать богатырщины и бывальщины про старые годы.
Ждан совсем забыл, что хотел он только взглянуть на игрище, и пошел бродить по лугу.
От множества костров было светло. Девушки, взявшись за руки, ходили вокруг костров и пели купальские песни. Ждан увидел в стороне четырех женщин, старых и безобразных. Они стояли у костра, шептали примолвления и валили в огонь чадившие травы. В своих черных шушунах, высохшие и сгорбленные, с крючковатыми носами, они походили на ворон. Одна вытащила из-за пазухи ребячью рубашку, кинула в пламя. За ней каждая бросила в костер по рубашке. Это были ведуньи. Наговорами в купальскую ночь они отгоняли от хворых ребят хворь, и матери перед днем Купалы не скупились на подарки ведуньям.
В другом месте долговязый парень прыгал через костер. Он подбирал полы сермяжного кафтанца, высоко вскидывал длинные ноги, прыгал раз, оборачивался и прыгал опять. Парень остановился перевести дух, тряхнув мочальными кудрями, он обратил к Ждану лицо, некрасивое, тыквой раздавшееся в стороны, со вздохом выговорил:
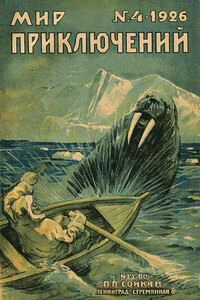
«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»). С 1912 по 1926 годы (включительно) в журнале нумеровались не страницы, а столбцы — по два на страницу (даже если фактически на странице всего один столбец, как в данном номере на страницах 1–2 и 101–102). Журнал издавался в годы грандиозной перестройки правил русского языка.

Практически неизвестные современному читателю романы Владимира Аристова «Скоморохи» и «Ключ-город» описывают события, происходившие в XV — начале XVI веков. Уже в прошлом Куликово поле, но еще обескровливают русские земли татарские набеги и княжеская междуусобица. Мучительно тяжело и долго складывается русское государство.Смутное время. Предательство бояр, любовь к Родине и героизм простолюдинов. Двадцать месяцев не могло взять польско-литовское войско построенную зодчим Федором Коневым смоленскую крепость…Художник А.

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.
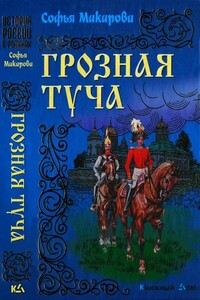
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
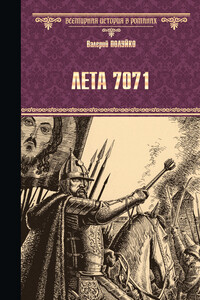
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
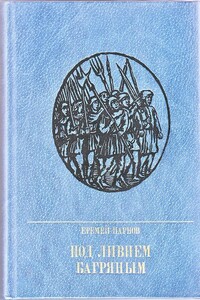
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.