Скитальцы - [317]
Здоров наш вор-то!
Донат воспрянул. Палач меж тем усердно готовился, его разжигало и слегка лихорадило. Он одного испугался вдруг: как бы не опозориться, не показаться смешным. Это его пугало всю жизнь. Судорожно глотая крупным острым кадыком и уже прея под ранним ярым солнцем, Сумароков через голову стянул поддевку, оправил кумачовую рубаху с черной опояской, все складки согнал назад и сам себе показался ладным, молодым и стройным. Когда проходил мимо Доната, не удержался и прошептал с радостным вызовом:
– Помучаю, но засеку. Молись пуще, богохульник.
– За тебя молюся, Июда! Чтобы рука твоя не отсохла, но могла справить нужду.
Палач стоял спиной к Донату, он медленно складывал поддевку, поверх ее мерлушковую шапку. Палач раздумывал, подыскивая такие слова, чтобы они оказались больнее плети.
– Не отсохнет моя рука, еретик, – сказал он свистящим шепотом и, приблизившись к позорному столбу, стал упорно разглядывать арестанта. – Потому не отсохнет, что Бог мне в помощь.
Народ заметил что-то неладное, загомонил, зашевелился, кидая взоры на жандармов. На веку такого не было, чтобы палач во время казни вел беседы с осужденным. И не то досадовало, что разговорились двое на помосте, тянули время, но то, что не слыхать было их крепких слов. А говорили, видать, ненавистно, ибо оба вдруг ожили, переменились. Палач опомнился, торопливо открыл коробку, где лежали орудия казни, понес по краю платформы, показал ее ушастому полицейскому чиновнику, потом вынул два длинных ремня с пряжками и крученую треххвостую плеть. Плеть развернул с шиком и проволок по доскам, показав толпе ее жесткое, гибкое тело. В этом хвастливом движении было тоже что-то сладострастное, похотливое, и Донат, глядя на ползущую черную змею, на тонкие побелевшие пальцы палача, понял вдруг, что смерть, однако, явилась. Донат готовился к ней всю жизнь, и, когда она приблизилась вплотную, он вдруг растерялся. Плоть вышла из повиновения души, плоти хотелось жить. «Господи, помоги выстоять», – вдруг взмолился Донат, но отчего-то с последними словами мысленно обратился к безликой, но глазастой толпе; ему вдруг почудилось, что народу жалко страдальца, он скорбит, он плачет вместе с ним, что смерти-то он не желает.
Палач все так же ходил по эшафоту размеренно, неторопливо, он играл на сцене один и сам выстраивал драму по своему разумению. Палач и король в одном лице соединились: он мог миловать, мог и в гроб вогнать. Никто во всем мире не мог сейчас остановить палача, дать меру его гибкой руке и жалости окоченевшему сердцу. Палач вошел в роль и поразился тому истинному глубокому наслаждению, что вдруг овладело им. Он налаживал дыбу, устанавливая ее под назначенным углом, – и это доставляло сладостное чувство. Он будто к недозволенной прекрасной женщине сейчас пробирался в спальню, робея слегка, но и млея оттого лишь, что никто его не схватит за руку и не осудит. Ему ремесло надо показать, похвалиться уменьем, развлечь толпу, вызвать из разомлевшей несчастной утробы, распяленной на кобыле, такой собачий вой пощады, который бы пробил все закутки Торговой площади и отозвался бы в каждой заблудшей душе, втайне помышляющей о грехе.
Палач освободил Доната от цепей, подвел к кобыле, предупредительно помог возлечь на доску, пахнущую чужой кровью, и принялся прикручивать ремнями руки и ноги. Тело Доната взмолилось, взбунтовалось. Даже в самые несчастные мгновения так не приневоливали его ширококостную натуру. Донат напрягся, и как ни бился палач над распростертым телом, не мог плотно прижать его к кобыле.
– Ты поддайся, ну что ты кобенишься, собака? Ты поддайся, – просительно шептал палач, жарко дыша в затылок арестанта.
На какое-то мгновение он даже растерялся, не зная, как поступить и к кому воззвать, чтобы помогли. Но кто хозяину помощник в его-то доме? Назвался груздем – полезай, дружище, в кузов и не жалуйся.
– Вот и не поддамся, Июда. Королю бы поддался, а тебе нет. – Донат вдруг уверился, что охотнее бы принял смерть от вора.
– А я из тебя все одно душу вон!
– Вон и не вон. Тебе сопли на кулак мотать, а не спины чесать.
Палач со злостью задрал рубаху к голове жертвы, спустил исподники, заголив филейные мяса. Крепко замешан мужик, и постная воздержная жизнь лишь задубила шкуру. Палач приценился к телу, заметил крохотное родимое пятно и решил первый ожог положить на родовую отметину. Пусть все отзовется в злодее, перевернется в нем, и, как знать, от того удара сразу отлетит его собачья душонка в ад. Наступила жуткая тишина, даже базар, казалось, замолк и вымер; все оторвались от заделья, от своих расчетов и рукобитий, от прилавков и торговых лотков и застыли в ожидании. Донат, распяленный, лежал на наклонной доске, чувствуя ласковое солнце. Он не видел себя со стороны и не знал, какой он сейчас униженный со спущенными на сапоги портами и небрежно задранной на голову рубахой. Неряшливо обнаженный, он худо походил сейчас на человека, и отчетливо видимые, еще не старые мяса приковывали взгляд и вводили в некоторое смущение, отчего случайные барышни отворачивали голову и подсматривали украдкою. «Скорей бы кончал, что ли, – подумал равнодушно Донат. – Тешится, сладострастник. Поди, с бабами не может, вот и тешится на чужой шкуре. Живым не отпустит». Подумалось, будто о ком другом. За долгие годы мыканья на белом свете Донат так притерпелся к лишеньям, худо воспринимал их, принимая уже за истинную полнокровную жизнь. Есть сухарик и глоток воды, не болят кости, не жжет грудину – вот и хорошо. Он приучился жить без крыши над головою и без женского догляда, он стал истым странником, коему пологом служило чистое небо, а периною сама земля. «Чего робеть? Ну посекут, шкуру спустят, разделают мясо по сортам. Эко диво! Донат, Доня, Донюшка, а ну воспрянь! И неуж труса празднуешь? Хвалился же: с радостью лягу на плаху. Еще и спины не почесали, а жмуришься».
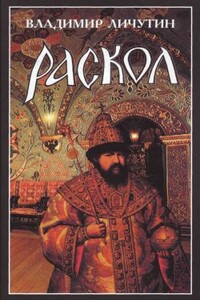
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
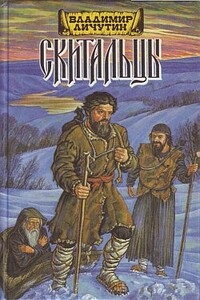
Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.
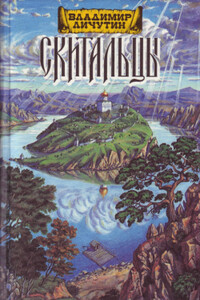
Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.
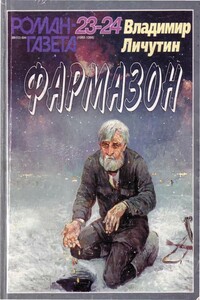
Смелость, доброта, благородство и милосердие – эти черты русского характера раскрыты в увлекательном по сюжету, блестящем по мастерству романе известного русского писателя Владимира Личутина «Фармазон». Здесь ярко и выпукло показана и другая – трудная, сложная и суровая сторона жизни, нарисованы непростые образы людей заблудившихся.

Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.
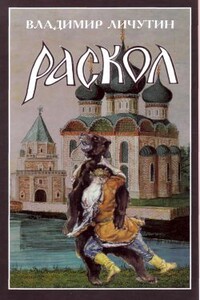
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

Когда-то своим актерским талантом и красотой Вивьен покорила Голливуд. В лице очаровательного Джио Моретти она обрела любовь, после чего пара переехала в старинное родовое поместье. Сказка, о которой мечтает каждая женщина, стала явью. Но те дни канули в прошлое, блеск славы потускнел, а пламя любви угасло… Страшное событие, произошедшее в замке, разрушило счастье Вивьен. Теперь она живет в одиночестве в старинном особняке Барбароссы, храня его секреты. Но в жизни героини появляется молодая горничная Люси.

Генезис «интеллигентской» русофобии Б. Садовской попытался раскрыть в обращенной к эпохе императора Николая I повести «Кровавая звезда», масштабной по содержанию и поставленным вопросам. Повесть эту можно воспринимать в качестве своеобразного пролога к «Шестому часу»; впрочем, она, может быть, и написана как раз с этой целью. Кровавая звезда здесь — «темно-красный пятиугольник» (который после 1917 года большевики сделают своей государственной эмблемой), символ масонских кругов, по сути своей — такова концепция автора — антирусских, антиправославных, антимонархических. В «Кровавой звезде» рассказывается, как идеологам русофобии (иностранцам! — такой акцент важен для автора) удалось вовлечь в свои сети цесаревича Александра, будущего императора-освободителя Александра II.

Андрей Ефимович Зарин (1862–1929) известен российскому читателю своими историческими произведениями. В сборник включены два романа писателя: «Северный богатырь» — о событиях, происходивших в 1702 г. во время русско-шведской войны, и «Живой мертвец» — посвященный времени царствования императора Павла I. Они воссоздают жизнь России XVIII века.
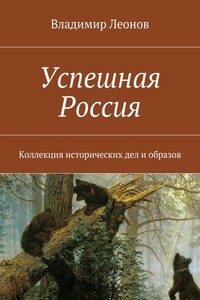
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.