Скитальцы, книга первая - [27]
– Утресь, как проснессе, и наш татушка буде...
– Ври-ко боле, – не поверил Донька.
– Ну-ну, – вдруг резко прикрикнула желтоволосая Тина, сглатывая неожиданные слезы. – Каши березовой захотел?
– Чего орешь на парня? – заступился дядя Гришаня. Он стоял у балагана и вычесывал серую посекшуюся бороду деревянным гребнем. – Орет на парня, сама не знает, чего орет. Вари выть-то давай, вон солнце на корню траву сушит. А мы пока по дрова...
Шел дядя Гришаня, западая на левую ногу, держался цепкой рукой за Донькино узкое плечико и бормотал глуховато:
– У тебя мамка-то всем бабам баба. Ты ее слушайсе.
– Я и не перечу.
– Во-во, на мати не жалуются. Да и кому, да и грех, Донюшка. До Бога высоко, до царя далеко, отец у моря в неволе, одна мати возле. Хочет – посекет, а хочет – помилует.
– А меня мати не секет, – похвастался Донька.
– И худо, что не секет, порато худо. От любви посекет, только ум поправит. А она жалеет, раз пары у тебя нету. У нас, у Богошковых, все на детишек обижены. У меня с бабкой сколько их было, считать забыли, а ни один вот не зажился, а потом и старуха убралась, оставила меня сиротеть. Тебя мати тешит, по-худому тешит. А тешеной, что до времени рожоной, оба – не от Бога.
– Намедни мамка меня отшлепала, овцу одну на поскотине потерял, – признался Донька, ему вдруг не захотелось быть тешеным.
– Ну и хитрован ты...
– Не-ка, я простофиля. Мамка мне-ка говорит, простофиля, дак.
– В наш ты род, богошковской. – согласился дядя Гришаня. – Меня, бывало, старуха моя все срамила, пошто я тихой такой, будто корова комолая, всякий подоит. Заведется, бывало, покоенка, ругается, криком покорить норовит, все небо замутит. А я молчу. Немтыря ты, кричит, немко безъязыкой, что у тебя, языка нету, отнялся, скажи хоть слово людское. Сяду вот на тебя да поеду по деревне людей смешить. И тут я смолчу, пережидаю, ни слова против, а скоро бабку мою хоть в долонь бери да жамкай, веревки с нее вей, такая податливая станет, ну мягше воску. Не разговорный я был, чего таить это дело, а нынче наговориться не могу. Вот беда-то настала, мелю и мелю, остановы-то никакой нету. Порой думаю, может, дикой какой я стал, одичал, человеческий вид потерял? Дак нет, выйду в деревню, покажусь, вроде не бегут от меня. А вернусь опять, по избе поброжу, а кругом тайбола[19] дикая, темень несусветная, хоть криком кричи, хоть зверем вой, никто не услышит. Разве зимой только волк в ответ: у-у-у, а я будто возрадуюсь, в потемень-то как начну из ружья обхаживать, аж засветит все, загудит. Только повалюсь, а он, волчище, треклятый, опять: у-у-у, я снова в одном исподнем за ворота. И так всю ночь позорюсь, и весело мне. Осподи, вот жизнь-то, не знаешь, что и хочешь. Бывало, все спокою искал, уйду в горки, в боры, где белку возьму, где куньку подловлю, и благостно мне...
Бродили Донька с дядей Гришаней долго, добыли из леса хонгу[20], ох и жаркие будут дрова, желтоволосой Тине на радость. Но пока волокли да разделывали на чураки, у матери и выть готова: житняя каша с коровьим маслом и котел чаю. Принесла еще Тина из тени берестяной пестерь с подорожниками и достала пирог рыбацкий с палтосиной. Корку твердую, как кожаные переды у сапог, рвали руками, но солонющей рыбы тащили совестливо, чтобы поменьше съесть, а поболе воды выпить. После житней каши долго чаи дули, выплескивая на сторону сваренных комаров, не по одной кружке опрокинули, сыто рыгали, закусывали пряниками медовыми: ради сенокосного зачина раздобрилась Тина Богошкова, ну как тут не покормить мужиков-работников.
С такой выти не грех бы и поспать, да не на отдых в комариную даль тянулись, дай-то Бог под самую ночь прикорнуть на один глазок. И так пойдет со дня на день, закрутится колесом до самой последней копны, и тогда только свободно глянешь и подивишься: осподи, да мы ли провернули всю эту тягость, а зароды, а зароды-то стоят, будто новые пятиалтынные, будто избы просторные, ветер их не подточит ни с какого боку, былинки не унесет, и под каждым кустышком ни одной косицы травы не качнет забытой – всю прибрали к рукам. Вот тут и вздохнуть бы, да нет, до ледостава только взад-вперед, вперед-назад на карбасах. Ведь сено на пожнях – это не сено, его зимой по тайболе не вызволишь, надо полой осенней водой на карбасах сплавить; иначе мор коровушкам, висеть им на ужищах[21] до новой травы иль посередке зимы с присохшими хребтинами идти под нож. И такое бывало...
Под полуденным солнцем желтоволосая Тина ворошила граблями сено, Калину, мужика своего, поминала, где-то он там, живой ли в студеном море: жил бы в деревне, спокой-дорогой, и какая нелегкая его тянет, пёхает во льды, на каменный остров. Все люди как люди, при земле живут, во своей семье, а тут бродяга бродягой – знать, приворожила его водяница морская, обманщица русалка ввела в ман греховный. Осподи, не дай погинуть мужику, заступись, вороти его в домы живу-здорову, не осироть сына моего, рублевую свечу поставлю во спасение, век стану за тебя молиться.
А Гришаня Келейный из черемухи волокуши под сено ладил, крепил вересковыми обвязками, чтобы гнулись они да не ломались, таких на целый век хватит. Порой за Донькой приглядывал – тот на речном берегу дикий лук рвал. Бездумно шевелил Гришаня тонкими губами, щеки присохли к деснам, опустел рот, что у малого, бормотал мужик себе под нос: «А что будет после-то, выспрошу у Господа», – и легкий ветер с далекой реки Шалони завивал сивую стариковскую бороду.
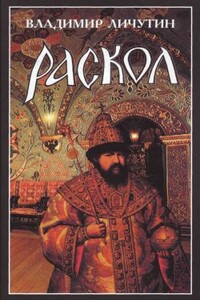
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский парод и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, - той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь..Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома, отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать благословенное и таинственное Беловодье - землю обетованную.Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада, чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.
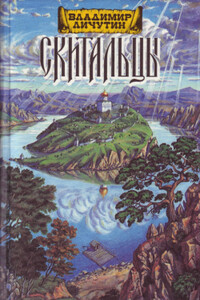
Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.
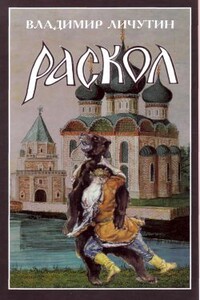
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.
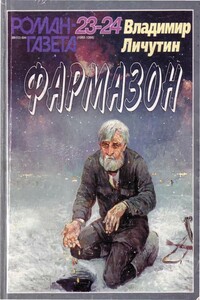
Смелость, доброта, благородство и милосердие – эти черты русского характера раскрыты в увлекательном по сюжету, блестящем по мастерству романе известного русского писателя Владимира Личутина «Фармазон». Здесь ярко и выпукло показана и другая – трудная, сложная и суровая сторона жизни, нарисованы непростые образы людей заблудившихся.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
