Скиф - [2]
Живя в Ярославской области, Николай Михайлович занимался краеведческой работой. В 1927-1928 годах он возглавил археологическую экспедицию по комплексному изучению Рыбинской и Ярославской областей. Как итог вышла книга «Прозоровские могильники (Мологский уезд Ярославской губернии)». В 1929 году он участвовал в раскопках Аффасиба (Самарканда) и Талгорского городища, а в 1930-м обследовал древний Болгар. В том же году вышел и стал доступен читателю роман «Скиф». Другой роман Н. М. Коробкова «Распад», написанный в ,1934 году, где изображена картина жизни московского дворянства шестидесятых годов девятнадцатого века, был только набран, а книга рассказов и очерков осталась в рукописи.
В 1933 — 1935 годах, вернувшись в Москву, Николай Михайлович принимает участие в археологических исследованиях, проводившихся по трассе строительства метро в районе Китай-города и Белого города. Результаты этой работы отражены в его книге «Метро и прошлое Москвы». Большой материал собрал молодой, но уже авторитетный ученый по истории русского вооружения во время изучения стен древней Москвы, Коломенского, Серпуховского кремлей и ограды Троице-Сергиевой лавры.
Николай Михайлович высоко ценил музейную работу, активно участвовал в восстановлении военно-исторического музея «Бородино». Автор этих строк хранит доселе детские воспоминания о том, как мы всей семьей участвовали в торжествах по поводу открытии музея, помнит выступление отца с докладом в этот волнующий день.
Тяжело Николай Михайлович перенес свое заключение в Воронеже, где скоро заболел и был помещен в больницу. Его сестра Нина Михайловна нашла его в больнице в тяжелом, почти безнадежном состоянии. Она поехала в Воронеж на день, чтобы навестить брата, не зная о его болезни. А пришлось ой там пробыть немало дней. Спала то на вокзале, то на лавочке в сквере, а днем ходила в больницу, кормила брата с ложечки. В конце концов его разрешили забрать домой, так как шансов на выздоровление практически не было. Она привезла Николая Михайловича в Москву, где любящая жена вытащила его, можно сказать, из могилы.
Побывал он и в Бутырской тюрьме. Следователю не понравилась его молчаливость, поэтому он водил «врага народа» на расстрел в подвал, но выстрелил в стену над головой. Отец рассказывал, что после этого, когда его привели обратно в камеру, он всю ночь вздрагивал и подпрыгивал на койке от пережитого нервного напряжения.
Всю войну Николай Михайлович провел в Москве, очень плодотворно работал, читал много лекций по радио и в разных учреждениях, летал как корреспондент на передний край, в частности — в Сталинград. В ноябре 1947 года Николая Михайловича Коробкова, ставшего профессором и крупным авторитетом в археологии и истории, назначили директором Научного исследовательского института краеведческой и музейной работы, а 18 декабря он скоропостижно скончался, не дожив одного дня до своего пятидесятилетия. Сердце не выдержало напряжения столь трудных лет скитаний по тюрьмам, болезней, ссылок, тяжелых условий быта и работы. В некрологе, подписанном такими известными деятелями науки и культуры, как Б. Д. Греков, Н. Э. Грабарь, И. Н. Плавильщиков, Т. С. Пассек, А. В. Арциховский, Н. Н. Воронин, Н. П. Шляпников, отмечался не только научный вклад Николая Михайловича, но и большая чуткость к людям, что необычно для того времени.
Его сестра Мария Михайловна вспоминает, как брат говорил ей, что ему Богом дана большая жалость к людям. Вокруг нашей семьи всегда было много страждущих, с больными детьми, и тех, кому некуда было деться после репрессирования. Это я уже пишу не по рассказам других и не по документам, а по своим личным, пусть детским воспоминаниям. Отец всем помогал деньгами, советами, составлял документы, просьбы, устраивал на работу. В быту он был очень скромен.
Жили мы, как уже упоминалось выше, в маленькой комнатке коммунальной квартиры. Помню, что отец все время либо писал, либо ходил по комнате и думал. Мама была занята по хозяйству, кроме того она была его верным и безотказным секретарем. Почти все работы отца переписаны ее рукой. Нужно было постоянно отвечать на телефонные звонки, принимать курьеров, просматривать почту. А я чаще всего сидела с отцом за письменным столом и рисовала. Он мне время от времени тоже рисовал домики с длинными, длинными заборами, а я эти домики вырезала ножницами и склеивала на листе бумаги из них целые деревни. Иногда он брал меня с собой на улицу. Мы гуляли по Новослободской и по улице Чехова. Тогда там еще ходил трамвай. Остановка у нашего дома называлась «Подвязки». Я думала по простоте своей, что это «подвески», но отец объяснил, что там была аллея вязов и остановка была под вязами. Вязы исчезли, а название еще какое-то время оставалось.
Потом мы шли гулять к дому Достоевского. Там в то время было как за городом — огромные деревья и целая улица деревянных домов.
А дома мы слушали черную тарелку радио, чаще всего трансляции опер. Особенно любил отец «Князя Игоря», а также «Руслана и Людмилу». Рассказывал мне о Жуковском, Пушкине, Блоке, учил меня их детским стихотворениям. Я их запоминала. Потом во дворе с другими детьми мы придумывали мелодии к ним и сами для себя устраивали небольшие инсценировки. Так ненавязчиво, совсем незаметно воспитывал меня, прививал мне понимание великой русской культуры умный и хороший человек — мой отец.
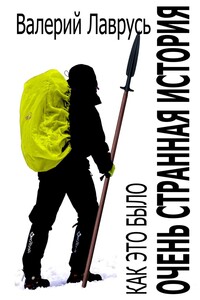
Попаданец Юра Серов познакомился со странными профессорами-историками и попал в историю. В очень странную историю, где реальность переплетается с вымыслом, а вымысел так и норовит стать неоспоримой истиной. Как разобраться? Как понять, что в Истории ложь, а что — правда? Как узнать, где начинается сказка, а где она заканчивается? Просто! Надо поставить мысленный эксперимент!
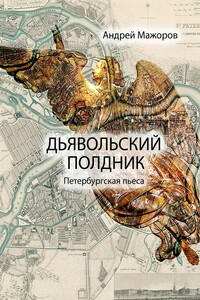
4833 год от Р. Х. С.-Петербург. Перемещение в Прошлое стало обыденным делом. Группа второкурсников направлена в Петербург 1833 года на первую практику. Троицу объединяет тайный заговор. В тот год в непрерывном течении Времени возникла дискретная пауза, в течение которой можно влиять на исторические события и судьбы людей. Она получила название «Файф-о-клок сатаны», или «Дьявольский полдник». Пьеса стала финалистом 9-го Международного конкурса современной драматургии «Время драмы, 2016, лето».
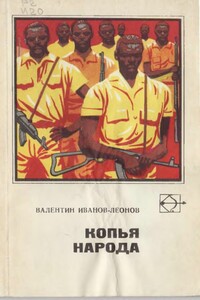
Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
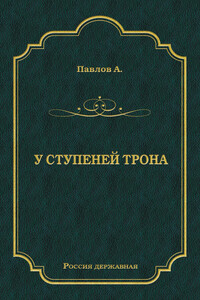
Александр Петрович Павлов – русский писатель, теперь незаслуженно забытый, из-под пера которого на рубеже XIX и XX вв. вышло немало захватывающих исторических романов, которые по нынешним временам смело можно отнести к жанру авантюрных. Среди них «Наперекор судьбе», «В сетях властолюбцев», «Торжество любви», «Под сенью короны» и другие.В данном томе представлен роман «У ступеней трона», в котором разворачиваются события, происшедшие за короткий период правления Россией регентши Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны.

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.