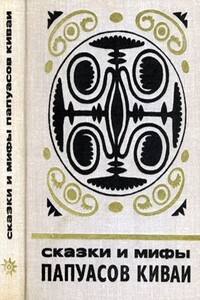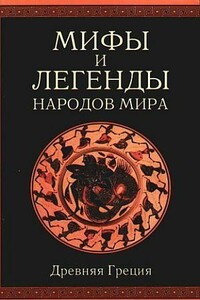Неделя прошла, другая кончилась, а Бурылин и не открывает сундука. Федот требует:
— Когда ты сожжешь пагубную доску? Вынимай!
Бурылин хихикает:
— Экой ты слепой, да я ее давно спалил и золу на огород выбросил.
Федоту не больно верится. Сундучок открыть велит, думает, на плутовство сосед пошел. Отперли сундук, никакой там доски нет.
Нет, так нет. Федот все-таки еще раз упредил:
— Коли что коснется, какой слух пойдет, — донесу, сам схожу, вот те крест!
А Бурылин и ухом не ведет.
— Я, — говорит, — давно уж забыл про ту доску. Из любопытства твое мастерство испытал, вот и все.
Как-то по лету за грибишками оба собрались. Лес в те поры у самых фабричных ворот рос. Гриба родилось необеримо. Ткнулись в лес вместе, ходят-поговаривают, боровики под корень ломают, чинно да мирно. Дале да дале — и разошлись в чаще. А уже далеконько ушли, места глухие, непролазные, и солнце в ту глухомань не заглядывает. Сначала брели да аукались, друг дружке откликались. Потом Федот: «Ау, ау!»
От Бурылина никакого ответа, диви под землю провалился. Покликал, покликал Федот своего друга, тоже отстал, думает: не мал ребенок, не заплутается, выйдет на опушку, встретимся. Бродит один по чащобнику, а в кузове больше половины. Скоро бы и домой пора.
К вечеру вышел Бурылин на опушку, в кузове — полно, сел на пень, посвистывает, аукает Федота, а его нет как нет. Одному вертаться не в охотку. Сидит, ждет. Сумеркаться стало. Последние грибники, свои же фабричные, из леса идут. Бурылин их спрашивает:
— Тамотка моего деда слепого не заметили? Где его леший водит, знать, сослепа закружился.
Бабенки смеются:
— Видали, на твоем деде волк на свадьбу покатил…
Затемно ввалился в свою халупу Бурылин. Не дождался старика. Как ступил через порог, бросил кузов на голбец, дверь на крючок, сам скорее под пол со свечой.
Утром на смену пора, а Федот все грибничает. В набоешной контурщики спрашивают Бурылина:
— Что наш дед, захворал, что ли?
Бурылин объясняет:
— Похоже, в лесу очки потерял, сослепа с дороги сбился, плутает где-то, а то, может, и к старухе в деревню грибы сушить понес. Еще третьеводни собирался на побывку домой.
Артельные в ум взять не могли: как так в неположенное время Федот на побывку отлучился и хозяину не доложил? За такие выходки хозяин не миловал. Федот — как в воду канул. С того дня Бурылин за Федота дело стал править. Заводчиком поставили. Бурылин сразу прибавку себе запросил, а о своих артельных и не заикнулся. Накинул хозяин сколько-то ему.
Решили, что сгиб Федот.
А Бурылин полгода не проработал — расчет хозяину заявил. Тот было его попридержать хотел. Бурылин — ни в какую. Я, говорит, свою светелку строить надумал. В Приказ сбегал, грамоту принес, чтобы запретов ему не чинили, и с фабрики в тот же день разочелся. Приказ за Бурылина горой встал. Фабричные диву даются, как-де быстро резчик в гору пошел: давно ли в лаптях шлепал, а ныне светелку заводит! Поставил он светелку, и дело у него колобком покатилось. Пяти лет не прошло — ткацкую в пять этажей затеял, дом себе построил, первый в городе. Рысаки, тройки, кареты, кучера. Деньги ему — словно с неба валятся. Дивится народ. Жену себе взял из купецкой семьи. Вровень с купцами первой гильдии стал, еще богаче, пожалуй. Ему теперь и чорт не брат. Кого запугал, кого задарил. Все у него в долгу, как в шелку.
Только вот однажды пожаловал к губернатору некий купец вместе с полицией, высыпал на стол кредиток целый мешок.
— Посмотри, ваша милость, каковы?
Тот глядит:
— Новенькие, только со станка.
— То-то и оно, что только со станка, — сказывает купец. — Все до единой фальшивенькие. Бурылинские приказчики всучили.
Дело не шуточное. Дулся, дулся губернатор, однако делать нечего — пришлось ехать.
Другому бы человеку верная каторга или петля за денежную фабрику. А Бурылин сухим вылез, от губернатора отвертелся, — ну, ясно, сунул немалый куш. В губернии-то было — и концы в воду. Ан царев министр и услышал, сам встрял в эту кутерьму.
Все думали — пропал хапуга, придется ему распроститься со своими фабриками.
А оказалось, и царев министр на золотой-то крючок клюнул: замял дело, под сукно положил. И попрежнему все начальство к Бурылину в гости ездило, пили, ели, картежничали.
В тот год орехов уродилось видимо-невидимо. Чуть ли не до белых мух парни с девками за орехами по воскресеньям в лес ходили. Осень пришла такая ли раскрасавица.
Лес в новую одежду принарядился. Сверху, словно во сне, листья обрываются, и не поймешь, или они падают, или нет, лениво-лениво на землю садятся, оранжевым ковром под ноги стелются.
Белкам приволье. Самый лучший орех им остался. Тешатся они, с сучка на сучок шныряют.
Вот и пошли фабричные парни в лес по орехи. А уж орехов осталось: где орешек на кусте, где два, а где и того нет. Поздний орех ищи не на лозе, а на земле.
Идут, значит, да под кустами посматривают. Глядь — левадинка круглая, голая, словно медведь тут спал да кусточки примял. Посреди левадинки молодая березка на белой ножке стоит, листья на ней золотые. А под ней-то лежат желтые кости, рядом кузов под кустом валяется и табакерка костяная. Взяли парни табакерку, видят — Федотова.