Символисты и другие - [35]
Оно отделывается критиканкой в четырех словах: «мучительное, уродливое, детски-жалкое, совершенно непонятное».[249] Эти приговоры я себе объясняю следующим образом. Понятие мучительности, конечно, происходит из суждения об уродливости и непонятности. Уродливость – дело вкуса и условной классификации. Этакое обозначение входит вполне в область все тех же утративших всякий постоянный смысл физиологических да гигиенических подразделений. Согласно им, к одному живому существу «по щучьему веленью, по моему хотенью» приклеивается ярлычок: «породистый, первый сорт», к другим – «выродок, урод, скверного качества». Кто этому указчик? Вкус, нрав, произвольная установка задач рода и особи. Чтό кому хочется, чтоб было или не было – единственное определение уродства, вырождения или породы, доброкачественности. Как же было мне не знать, что на потребу г-жи Гиппиус не угожу? Тут органический разлад.
Всякие сетования обличителей уродства, вырождения, извращения вкусов из века в век уподобляются негодованиям сторонников лжеклассической рутины на «чудообразные игрища» Шекспира и смесь родов искусства. Что бывало проповедь единства времени, действия, литературных, сценических видов – то теперь борьба против всякого рода неправильностей и диссонансов в построении речи, стиха и даже музыкальных звуков. И чем руководятся в таких случаях все ревнители вкуса и благородства, обличители искажения и уродства? Вечно памятны доводы за лжеклассическое разделение драмы и против «мещанских трагедий»: «А ежели ни г. Вольтеру, ни мне никто в этом поверить не хочет, так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пить с солью, кофе с чесноком, и с молебном совокупят панихиду. Между Талии и Мельпомены такая же разница, какова между дня и ночи, между жара и стужи, и какая между разумными зрителями драмы и безумными».[250]
До чего в этих милых метких словах первого нашего спесивого писателя-академика заложены, как в яйце, все постоянные обвинения рутинеров против новшеств и дерзостей. Тут вскрыта их вечная основа. Тут и воззвание о всех законах рассудка и стихий и вместе с тем прелестное самообличение традиций и староверства: все на поверку сводится к тем же инстинктам, которые заставляют человека есть щи с солью, а кофе с сахаром, все изливается в древнее присловье:
Не мудрено, что критиканке мучительно слушать то, что на ее слух – какофония: только еще мучительнее меня слушать, я думаю, потому, что приходится «ломать себе голову». Мои речи совсем «непонятны»: таков самый полновесный резерв обвинений З. Н. Гиппиус. И так, увы! опять приходится слышать от критика это беззастенчивое признание, которое равно собственноручной расписке в критической несостоятельности, так что у человека обдуманного едва ли язык повернулся бы его высказать. «Мне, мол, непонятно» – отсюда, как мне кажется, единственный вывод: «значит, не моего ума дело, мне невдомек, не мне судить». Если кому чтό непонятно, тот, значит, непонятлив. Остается ему положить хранение своим устам или сказать: «пас». То, чтό перед ним, – то икс, которого ему не понять, то есть просто-напросто взять, тронуть: руки коротки, не дорос человек. Значит, остается сложить руки. Так нет, шалишь – как же это так, говорят тогда люди, мне не достать? Надо топнуть ногой, хлопнуть кулаком по столу, как ребенок, когда ушибся: на, мол, тебе, скверность, за то, что не даешься! «детски-жалкая» ты дрянь!
И вот каким образом критиком производится блистательный заключительный вывод из своих обвинений. «Коневской глубоко несчастный человек, такой, кого не слышат, погибающий, в отчаянии». Так… я, значит, погибаю, потому что моя мысль не вмещается в голове г-жи Гиппиус, недоступна для ее мозговой извилины. Я в отчаянии потому, что меня не слышат: туги, значит, на ухо; а кричать я не хочу; да ведь если б и крикнул, так ничего бы не вняли, кроме крика: дошло бы до барабанной перепонки, но не до мозга. Так бывает с великими художниками. Они хотят говорить громко и звучно, и прекрасно делают, благо на то их воля, и выходит превосходно. И народ их слушает и хвалит, потому чувствует – голосина здоровый; ну, а уж в чем дело – о том лучше не спрашивать. Достаточно справиться в «литературе о Пушкине». И от этого всей душой, в самом деле, жалко этих громко и внятно говорящих поэтов. Если же я для г-жи Гиппиус непроницаем и неприступен, а сам проникаю в каждое ее слово (о чем прошу ее узнать в другой прилагаемой статье),
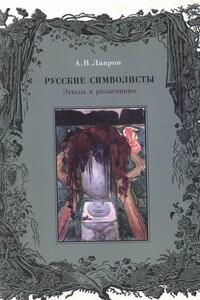
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
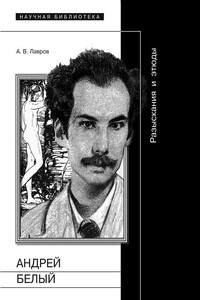
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.