Симонов и война - [26]
В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев руководителем делегации, а я его заместителем, как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности — а надо сказать, что на такие темы, как эта, он очень редко говорил, со мной, пожалуй, только трижды — он после того, как я, не помню, по какому поводу, заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом широко распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.
Через некоторое время Сталин принял Фадеева.
— Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? — спросил его Сталин.
Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.
— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.
После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.
— Пойдите, почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, — так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.
Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.
Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.
— И вообще чего там только не было написано, — горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей. — Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:
— Ну как, теперь приходится верить?
— Приходится, — сказал Фадеев.
— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, — заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.
Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай. При одном направлении твоих собственных мыслей это могло ощущаться как горечь, оттого что пришлось удостовериться в виновности такого человека, как Кольцов, а при другом — могло восприняться как горечь от безвыходности тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова: «Чего там только не было написано», — толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае, впрямую, потому что Кольцов — это ведь уже не «ежовщина». Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а сам Сталин.
Почему я так долго говорю обо всем этом, самом тяжелом, трудно объяснимом и трудно переносимом даже в воспоминаниях, когда обращаюсь к годам своей юности? Ведь было тогда много и всякого другого, совершенно непохожего на все это, далекого от этого. Вот именно! В этом, очевидно, все дело, хотя многие страницы, написанные мною до сих пор, как бы входят в противоречие с началом этой рукописи, заявкой на рассказ или, вернее, на попытку анализа отношения человека, или людей моего поколения, к Сталину. Не могу обойтись без этих страниц, ибо отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина. Противоречия, заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни двойственного отношения к Сталину — там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полуосознанные, но все-таки где-то в душе произраставшие. А в полный рост эти противоречия тогда не пошли, не дали ростков. Не потому, что, как теперь часто говорят, мы тогда этого не знали, это мы потом, после XX съезда, все узнали. Многое, конечно, узнали только после XX съезда, это верно. Но отнюдь не всё. Было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем оснований.
Дело не в том, что ровно ничего не знали, а в том дело, что, ощущая и в какой-то мере зная о том дурном, что делается и только потом не полностью и запоздало исправляется, а иногда и не исправляется вообще, гораздо больше знали о хорошем. Я сознательно употребляю эти общие слова — «дурное» и «хорошее», потому что в другие не вместишь то, что под этим подразумевалось в то время.
Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило — значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, Промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно: мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.
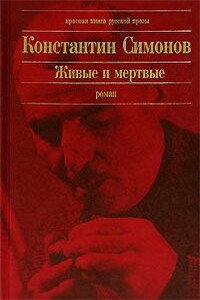
Роман К.М.Симонова «Живые и мертвые» — одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне.«… Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и в свою очередь думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки.Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа.А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла.

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем писатель приводит своих героев победными дорогами «последнего лета» Великой Отечественной.

«Между 1940 и 1952 годами я написал девять пьес — лучшей из них считаю „Русские люди“», — рассказывал в своей автобиографии Константин Симонов. Эта пьеса — не только лучшее драматургическое произведение писателя. Она вошла в число трех наиболее значительных пьес о Великой Отечественной войне и встала рядом с такими значительными произведениями, как «Фронт» А. Корнейчука и «Нашествие» Л. Леонова. Созданные в 1942 году и поставленные всеми театрами нашей страны, они воевали в общем строю. Их оружием была правда, суровая и мужественная.

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.

1942 год. В армию защитников Сталинграда вливаются новые части, переброшенные на правый берег Волги. Среди них находится батальон капитана Сабурова. Сабуровцы яростной атакой выбивают фашистов из трех зданий, вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, ставших неприступными для врага.«… Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил награды. Все, кому они предназначались, были живы, хотя это редко случалось в Сталинграде.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Чтобы по-настоящему понять детективы Стига Ларссона, нужно узнать, какую он прожил жизнь. И едва ли кто-нибудь способен рассказать об этом лучше, чем Ева Габриэльссон, его спутница на протяжении тридцати с лишним лет.Именно Ева находилась рядом со Стигом в то время, когда он, начинающий журналист, готовил свои первые публикации; именно она потом его поддерживала в борьбе против правого экстремизма и угнетения женщин.У нее на глазах рождались ныне знаменитые на весь мир детективные романы, слово за словом, деталь за деталью вырастая из общей — одной на двоих — жизни.
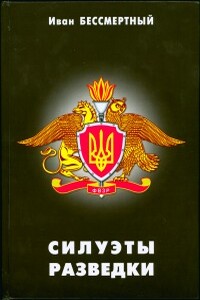
Книга подготовлена по инициативе и при содействии Фонда ветеранов внешней разведки и состоит из интервью бывших сотрудников советской разведки, проживающих в Украине. Жизненный и профессиональный опыт этих, когда-то засекреченных людей, их рассказы о своей работе, о тех непростых, часто очень опасных ситуациях, в которых им приходилось бывать, добывая ценнейшую информацию для своей страны, интересны не только специалистам, но и широкому кругу читателей. Многие события и факты, приведенные в книге, публикуются впервые.Автор книги — украинский журналист Иван Бессмертный.
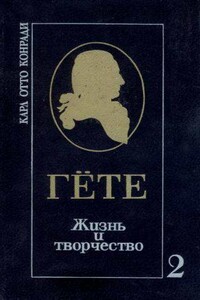
Во втором томе монографии «Гёте. Жизнь и творчество» известный западногерманский литературовед Карл Отто Конради прослеживает жизненный и творческий путь великого классика от событий Французской революции 1789–1794 гг. и до смерти писателя. Автор обстоятельно интерпретирует не только самые известные произведения Гёте, но и менее значительные, что позволяет ему глубже осветить художественную эволюцию крупнейшего немецкого поэта.
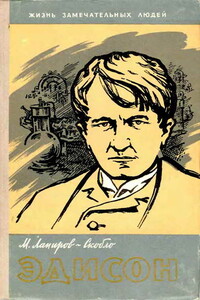
Книга М. Лапирова-Скобло об Эдисоне вышла в свет задолго до второй мировой войны. С тех пор она не переиздавалась. Ныне эта интересная, поучительная книга выходит в новом издании, переработанном под общей редакцией профессора Б.Г. Кузнецова.

От редакции журнала «Знамя»В свое время журнал «Знамя» впервые в России опубликовал «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова (1990, №№ 10—12, 1991, №№ 1—5). Сейчас мы вновь обращаемся к его наследию.Роман-документ — такой необычный жанр сложился после расшифровки Е.Г. Боннэр дневниковых тетрадей А.Д. Сахарова, охватывающих период с 1977 по 1989 годы. Записи эти потребовали уточнений, дополнений и комментариев, осуществленных Еленой Георгиевной. Мы печатаем журнальный вариант вводной главы к Дневникам.***РЖ: Раздел книги, обозначенный в издании заголовком «До дневников», отдельно публиковался в «Знамени», но в тексте есть некоторые отличия.
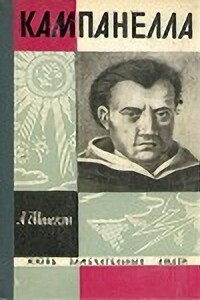
Книга рассказывает об ученом, поэте и борце за освобождение Италии Томмазо Кампанелле. Выступая против схоластики, он еще в юности привлек к себе внимание инквизиторов. У него выкрадывают рукописи, несколько раз его арестовывают, подолгу держат в темницах. Побег из тюрьмы заканчивается неудачей.Выйдя на свободу, Кампанелла готовит в Калабрии восстание против испанцев. Он мечтает провозгласить республику, где не будет частной собственности, и все люди заживут общиной. Изменники выдают его планы властям. И снова тюрьма. Искалеченный пыткой Томмазо, тайком от надзирателей, пишет "Город Солнца".

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.
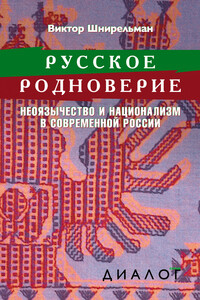
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.
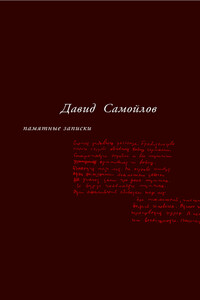
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)