Силуэты города и лиц - [2]
Самый развернутый образ Москвы присутствует, конечно, в «Евгении Онегине», этой энциклопедии русской жизни. Глубоким, доверительным голосом говорит Пушкин о значении Москвы для России и для собственного жизнечувствования:
Но ведь «Евгений Онегин» — роман, а не элегия, и Пушкин принимается писать широкое реалистическое полотно московской жизни.
Он отдает должное великой патриотической заслуге Москвы, о которую разбилась военная удача и слава Наполеона:
Москва — это и сады, чертоги, золотые главы церквей и деревянные дома в старых переулках с обветшавшим бытом, это ласковое, хотя и чуть назойливое гостеприимство, и, конечно, сплетни, пошлость гостиных, и шумные балы, и злословие «архивных юношей». Последних Пушкин высмотрел в Москве, где он много работал в архиве в Колпачном переулке, это сыновья из хороших семей, приставленные к архивному безделью для накопления первых чинов. Выражение стало нарицательным. С одному лишь ему присущим даром Пушкин передал неповторимый и густой аромат московского бытия.
Устрашающая Москва времен кровавых пиров Грозного царя возникает в незаконченном стихотворении (а может, поэме?) о молодом опричнике. В зачине — дивное описание люто-морозной московской ночи с синим чистым небом в россыпи мелких звезд; чудесная подробность: в тишине «лишь только лает страж дворовый. Да цепью звонкою гремит». Этой звонко-гремящей цепью создается огромность ночного лютого беззвучья.
Эпическая картина старой Москвы возникает в «Борисе Годунове». В пьесе не может быть городского пейзажа, она работает в своем материале, воссоздавая шум времени. Как многозвучен народный хор: в нем и горечь, и забитость, и едкий московский ум, и терпкий юмор. Но наигрознейше звучит не речь, а отвергающее молчание.
Трагедия кончается ремаркой: «Народ безмолвствует».
Бывали случаи, когда Пушкин порывисто кидал любимый Петербург к ногам Москвы:
Это значило, в Петербурге не было Екатерины Ушаковой, проживавшей тогда в Москве, на Средней Пресне.
Вообще же, отношение к Москве не было у поэта ровным, однозначным. Его многое восхищало, он в полной мере осознавал великое значение Москвы для России, но многое и не устраивало в тяжеловесном быте первопрестольной. Наиболее отчетливо это двойственное отношение к Москве сказалось в раннем (1819) послании Всеволожскому. Тут Москва предстает и неким эдемом, «где наслажденьям знают цену», и премилой старушкой, пленяющей живостью, и тучной бездельницей, мешающей жеманство, важную глупость с карточной скукой, и даже вертепом с «египетскими девами».
В свою очередь Москва относилась к Пушкину с известной настороженностью. Конечно, ему знали цену, на гуляньях его появление вызывало фурор (осталось свидетельство юной Сушковой, ставшей известной поэтессой Ростопчиной), но видели в нем не своего, не земляка, а приезжую знаменитость.
Судьбоносной для Пушкина Москва стала с появлением в его жизни Наталии Николаевны Гончаровой. Центром мироздания оказался дом на углу Скарятинского и Большой Никитской (ныне ул. Герцена). Отсюда после долгого и мучительного жениховства с тяжелыми объяснениями, оскорбительными отказами, полусогласиями и проволочками повел Пушкин к венцу свою Мадонну — «чистейшей прелести чистейший образец», бракосочетание состоялось в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, сохранившейся до нашего времени. Поселились молодожены на Арбате в «доме Хитрово», где теперь маленький музей. Накануне женитьбы Александр Сергеевич устроил тут прощание с холостой жизнью — «мальчишник», на котором присутствовали его ближайшие московские друзья: Денис Давыдов, Баратынский, Языков, Вяземский, Нащокин, Иван Киреевский, композитор Верстовский, а также родной брат Лев. И был Пушкин очень грустен.
Приезжая в Москву в последнюю, самую трудную пору своей жизни, Пушкин неизменно находил приют в теплом, хотя и не слишком опрятном гнезде добрейшего, умного, беспредметно одаренного типичного московского чудака Павла Воиновича Нащокина. Считается, что дом сберегли, и он до сих пор стоит на углу улицы Рылеева и улицы Фурманова. Кстати, остается загадкой, почему переименовали два старых московских переулка Гагаринский и Нащокинский, связанных с памятью Пушкина? Дмитрий Фурманов действительно проживал тут некоторое время, но его героическое бытие протекало совсем в иных пределах, а Рылееву сделали вовсе не нужный ему подарок. Самый же дом, вместо того чтобы отреставрировать — он выглядел вполне сносно, — разрушили до основания, а потом построили заново. Говорят, что так дешевле, — возможно, но историческое и мемориальное значение постройки утрачено. К сожалению, это обычная практика московских «восстановителей».
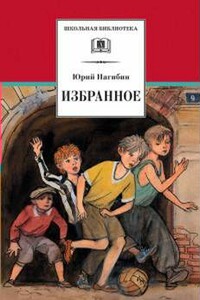
Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.
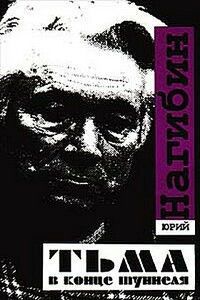
В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.
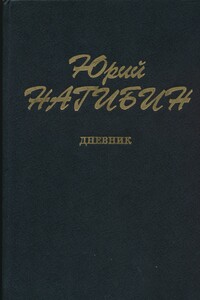
В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.
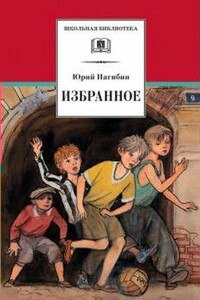
Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.
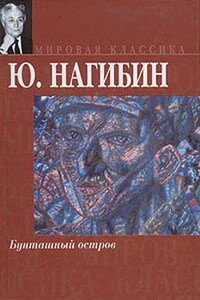
Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

Книга о непростых перестроечных временах. Действие романа происходит в небольшом провинциальном городе на Украине. В книге рассказывается о жизни простых людей, о том, что они чувствуют, о чем говорят, о чем мечтают. У каждого свои проблемы и переживания. Главная героиня романа - Анна Малинкина работает в редакции газеты "Никитинские новости". Каждый день в редакцию приходят люди, перед ней мелькают разные судьбы, у всех свои проблемы и разный настрой. Кто-то приходит в редакцию, чтобы поделиться с читателями своими мыслями, кто-то хочет высказать благодарность людям, которые помогли человеку в трудной жизненной ситуации, ну а некоторые приходят поскандалить.
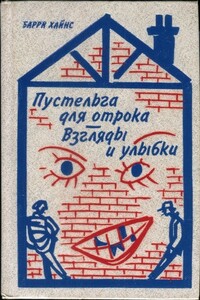
В книге представлены два романа известного английского прозаика, посвященные жизни молодежи современной Великобритании, острейшим ее проблемам. Трагична судьба подростка, который задыхается в атмосфере отчуждения и жестокости, царящих в «обществе потребления» («Пустельга для отрока»); но еще более печальна и бесперспективна участь другого героя, окончившего школу и не находящего применения своим силам в условиях спада, захлестнувшего экономику Великобритании.
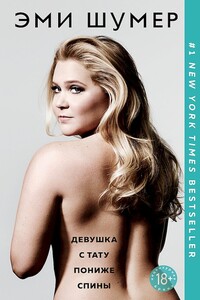
Шумер — голос поколения, дерзкая рассказчица, она шутит о сексе, отношениях, своей семье и делится опытом, который помог ей стать такой, какой мы ее знаем: отважной женщиной, не боящейся быть собой, обнажать душу перед огромным количеством зрителей и читателей, делать то, во что верит. Еще она заставляет людей смеяться даже против их воли.
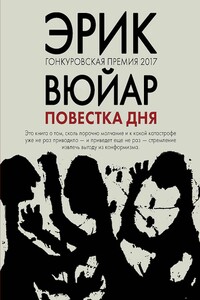
20 февраля 1933 года. Суровая берлинская зима. В Рейхстаг тайно приглашены 24 самых богатых немецких промышленника. Национал-социалистической партии и ее фюреру нужны деньги. И немецкие капиталисты безропотно их дают. В обмен на это на их заводы вскоре будут согнаны сотни тысяч заключенных из концлагерей — бесплатная рабочая сила. Из сотен тысяч выживут несколько десятков. 12 марта 1938 года. На повестке дня — аннексия Австрии. Канцлер Шушниг, как и воротилы немецкого бизнеса пять лет назад, из страха потерять свое положение предпочитает подчиниться силе и сыграть навязанную ему роль.

Северная Дакота, 1999. Ландро выслеживает оленя на границе своих владений. Он стреляет с уверенностью, что попал в добычу, но животное отпрыгивает, и Ландо понимает, что произошло непоправимое. Подойдя ближе, он видит, что убил пятилетнего сына соседей, Дасти Равича. Мальчик был лучшим другом Лароуза, сына Ландро. Теперь, следуя древним индейским обычаям, Ландро должен отдать своего сына взамен того, кого он убил.

Из-за длинных волос мать Валя была похожа на мифическую Медузу Горгону. Сын Юрка, шестнадцати лет, очень похожий внешне на мать, сказки о Медузе знал. Вдвоем они совершают убийство. А потом спокойно ложатся спать.